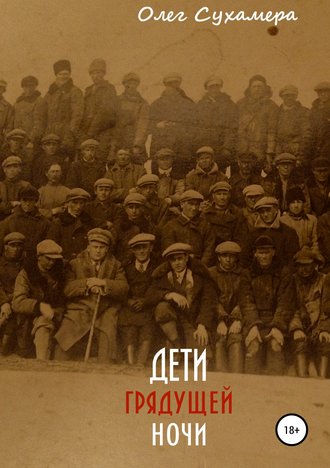 полная версия
полная версияДети грядущей ночи
Не справляясь с новыми и новыми позывами, Мишка рыдал взахлеб, размазывая слезы и рвотные массы по искривленному страданием лицу, истерически вопя то ли от ненависти к проклятой шлюхе-панночке, то ли из жалости к самому себе. Не сойти с ума и не сдохнуть, не дала лишь мысль, что умереть прямо тут же, без штанов и в собственной блевотине было бы слишком позорно и совсем не по-человечески.
Последнее, что запомнил юный пан Вашкевич, прежде чем лишиться чувств окончательно, это жуткий смех шевелящегося, причмокивающего сладострастно, человека-паука: «Ах-ха-ха-ха!»
* * *Август выдался жарким. Зеленые прусские мухи досаждали нещадно, буквально преследуя второй лейб-уланский Курляндский Императора Александра Второго полк. И не понятно было, то ли чуяли они в этой огромной армии будущую пищу для своих личинок, то ли просто привлекали их ручьи и реки конского и человечьего пота. Офицеры выламывали зеленые ветви с придорожных верб, матюкаясь про себя, обмахивались, разгоняя жужжащие назойливые полчища . Солдаты по большей части не обращали на насекомых никакого внимания, ссылаясь друг другу на устав, в котором черным по белому полагалось терпеть трудности и тяготы армейской жизни.
Стас блаженствовал. Ему нравилось все: и его скрученная вокруг туловища серая войлочная шинель, и пошарпанная предыдущим владельцем трехлинейка, перекинутая за спину, и лихо задранная на затылок, по последней полковой моде, фуражка на стриженной под ноль голове, не говоря уж о кляче по кличке Ласка. Кобыла мерно цокала разбитыми за долгую службу копытами по ровному прусскому бруку. Стас ехал в колонне по два, подставлял солнцу довольное лицо и думал, что в сущности жизнь удалась. Настоящему мужчине не так много надо: устать за день, умориться, а вечером проваливаться в сон; чтоб брюхо было не особо пустым да чувствовать локоть товарища, на которого можно рассчитывать, если что. Предвкушение опасности, которая поджидала по слухам где-то там, впереди, у городишка с дурацким названием Гумбинен, бурлило в крови у всего полка, вызывая почти животную радость: «скорей бы!»
Наверное, по этой причине офицеры перестали обращать внимание на выходки полкового шута и балагура Голощева, который в этот раз неожиданно густым волжским басом заорал похабную, набившую оскомину еще на привалах песенку:
– Офицерик он был смелый, стал ухаживать за мной! Мое сердце разгорелось к нему страстью роковой!
По колонне пронеслись робкие смешки предвкушения, и тут же нестройный хор гавкнул, будто огромный тысячеголовый бульдог:
– Эх-ма, Маруся! Я на тебе женюся!
Голощев, оценив произведенный эффект, подкрутил лихой ус и пропищал на этот раз дискантом:
– Как-то маменька узнала, что до свадьбы я не прочь. И, позвав меня, сказала: «Слушай миленькая дочь!»
Кавалеристы тут же подхватили:
– Эх-ма, девица! Такое не годится!
* * *Судьба петляет известными только ей одной путями-дорожками. Смеха ли ради, или по божьему промыслу сталкивает она своих подопечных иногда в самый неподходящий момент, чтобы ангелы-хранители и падшие духи прыскали иногда, давясь от смеха, в свои невидимые кулачки.
Как-то так получилось, что интересы дедушки Лю не ограничивались одной торговлей опиумом и доступными девушками низшего сословия. Сергею только и оставалось, что даваться диву от многогранности незаконной деятельности старого деляги.
– Революсия – хоросе! Много денег. Китаяся работа дает. Тока говорит много, да. Мракася капитал слюсать надо, да. Парытия: вечер цай пием, интересинасионал поем, потом – разьбой. Иксапри – эксапивасия? Потом богаты купесь, банкир, ювелир грабись идем! Хоросий дело!
– Серьезно? А как бы мне в вашу партию? Миру, случайно, не знаешь такую? Красивая такая. Глазищи огромные.
– Огыромные? Плеха. Больная, наверна. Да… бываит. Много баб в революсии. Молодая баба, замусь не взяли, она э в парытия ступает. У которой сиське нету, все – в парытия, революся делась! Тебе тозе мозьна. Денех нету. Сиське нету, баба нету, кха-кха-кха! Ни грусси! Э работа тебе найдем.
– Отлично!
– Тока интересианал надо наутиться! Петь тихонька, сьтобы дворник не слюсал…
– Да выучу! Когда познакомишь?
– Сейсясь не могу. Кылиенты курясь. Носсю не спи. Пойдем на сходку!
– Сходку? Слово паскудное. Как случка…
– Хоросие слово. Тама спели, мракася поситали, патома – деньги давай, работа давай. Лютьсие бандиты! Отцяяныя! Парытия!
– А возьмут меня в банду? Я ж для них левый клиент.
– Ни перезивай! Возьмут… я за тебя русяся. Мине поверят. Все китаяся революсия делать. Хорёсие деньги.
– Так я ж не китаец, а, дедушка Лю?
– Ыто ты так думаесь, кха-кха-кха!
* * *Походный костер, да пуговицы звезд на низком бархатном небе. Простая солдатская жизнь, каша в помятом котелке, дым кострищ, раскинувшихся тут и там на чужой прусской земле. Стас размотал коричневые обмотки, вывесил их на рогульку поближе к жаркому пламени костра, прилег на шинель, спасавшую не раз от земляной сырости, почти дремал, то вслушиваясь в неторопливый разговор тертых солдатской жизнью калачей, рядового Голощева и ефрейтора Кирюшкина.
– Ты, братушка, не держи зла, но ты покамест не воин, а так – вьюк у кобылы, – Голощев подкинул в огонь очередное поленце и затаил дыхание в надежде вытянуть Стаса на очередной пустопорожний спор, в которых он слыл мастаком. Не дождавшись реакции молодого солдата, огорченно крякнул и, так как мысль все же подпирала, продолжил ее, не особо уже рассчитывая на реакцию собеседников. – Вот такие, как ты, думають, что пришли оне в армию, и им тут все будеть готовое. И то правда! Но отчасти. И поднимуть, и спать положуть, твое дело служивое – и где поставили, там и стой. Оружие тебе дадено. Не теряй его. Голова своя есть? Добро! Но забудься про ее! Потому как над тобой господа офицеры поставлены, чтоб за тебя думають и про твои дела решають. Твои делишки мелкие, вашихбродий не касающиеся, их можешь справлять. Курехи там добыть или пайку побольше надыбать, сапог подлатать да портки просушить. Но! Все энти занятия – в свободное от службы время. Которого у тебя, как у воробья мозгов, – считай – нетути! Э, молодой, Булатов, или как там тебя, не спи, тебя особенно касается!
– Отличные мысли. Мотаю на ус, – зевнул Стас. – Только скажи мне, Голощев, зачем такой солдат армии?
– Что значить, зачем? Чтоб службу несть! Дурья твоя башка, извиняюсь за грубость.
– А служба зачем?
– Вот ты тупой! Чтоб мужику жизня медом не казалась! И то, сидел бы ща у своей бабы под сиськой да в щах мясу выискивал. А шиш тебе! Осударю ампиратору в войнушку поиграть придумалось, апосля утреннего кофию. Вон поэнтому мы тут.
– Не правда твоя, Голощев. Темный ты.
– А ты посвети лучинкой у мене в голове, коли сам светлый, – сидящие у костра уланы переглянулись в предвкушении спектакля. Голощев явно собирался срезать очередного сопляка.
– А я так думаю. Что солдат, он придуман, чтоб не служить там, где его поставили, а чтоб воевать.
– О как! Так служба не нужна, получается?
– Служба – она как тренировка, учеба. Чтоб в момент, когда выбор встанет, помереть, или победить, такого вопроса даже не возникало. Солдат – единица, которая должна костьми лечь, чтоб прошла тысяча.
– Ух, ты, ах, ты! А ты мамке своей объяснить сможешь, что сгинул, чтоб другие сапог своих о грязь не замарали?
– А война, братец Голощев, так думаю, не бабское дело. И объяснять им про это – пустое, не поймут.
– Ишь, уел! Ты человека, к примеру, убивал, а, вьюнош? – к разговору подключился ефрейтор Кирюшкин.
– Нет. Врать не буду, не доводилось.
– О! Я так и думал. А враг ить он тоже человек! В нем душа, кровь… красная такая, и кишки синие-синие. Шась по им саблей! Поперек! С отмаху! И развалил япошку, к примеру, до самого пупа. А душа-то вместе с паром из кишок – фьють! – и на небеса. И кто за это отвечать будет? Перед Богом, думал? – Кирюшкин засунул в широкую ноздрю понюшку табаку и чмыхнул значимо, будто сам встал рядом с апостолом Павлом у врат рая. – Ты живую душу загуби, потом посмотрим, кто тута солдат, а кто перхоть гражданская. У попа тоже служба, да заслуги разные. Что ты знаешь про войну, щеняка…
* * *Луна вскарабкалась на небесный трон и засияла там полным властелином, словно огромный матовый шар.
«Воровское солнце, все верно. Все как на ладони, ясно видно. За исключением теней. А в них может прятаться все, что угодно, любой кошмар», – думал Сергей, едва поспевая за шустро семенящим по ночной улице китайцем.
За очередным ничем ни примечательным перекрестком из тени черного деревянного домища вдруг, как будто призраки, из сгустка ночного тумана, материализовались две сутулые фигуры, прячущие лица в поднятые воротники.
– Куда путь держите, люди добрые? – с неявной угрозой безжизненно пробасил один из призраков.
– Кы длюгу! Помер он. Ы ветером. Поминася будем, – деловито бросил дедушка, едва не толкая спросившего сухеньким плечом.
– Отпевать же! Вечно вы, дедушка, все перепутаете, – покивала фигура и слегка подвинулась, все еще не уступая дорогу.
– Ыто я! Сьто ни видна?!
– Порядок такой. Пароль надо. Мало ли… не ждут вас тут. А это кто с тобой?
– Ыроцвенник! – кха-кха-кха. – Сютка. Мой тиловек, тозе революсия делать буит!
– Тсс. Еще на всю улицу проори. Не положено, вообще-то.
– Я за него русяся! Надезьно!
Фигуры переглянулись, как бы собираясь с мыслями. Спорить с занудным китайцем им явно не хотелось. Один из сторожей чиркнул спичкой, тыча ей едва не в глаз Сергею.
– Из рабочих?
– Угу. Из крестьян.
– Тоже дело. Смотри, о чем услышишь, молчи, чтоб язык не укоротили. Чего увидишь – забудь, чтоб зенки не выковыряли.
– Не дурак. О своем здоровье заботься.
– Борзый? Это хорошо. Проходи, товарищ…
… В комнате можно было вешать топор, табачный дым разделился на слои. Было понятно, что курцов тут много и сидят они давно.
Дедушка Лю, бесцеремонно расталкивая локтями бледных работяг в помятых рубашках, тащил Сергея за собой к небольшой, импровизированной из низкого лежака голландской печки, авансцене. Там упитанный человек крепкого телосложения с круглой головой, посаженной прямо на покатые плечи, вращал бешеными живыми глазками на некрасивом лице и, брызгая слюной и вскидывая иногда для убедительности громадные ладони, вещал:
– Какие твои права, товарищ? С утра до ночи стоять у станка, чтобы получить краюху хлеба и чугунок картохи? Что ты видишь в жизни? Штрафы да поборы тех, кто ворует твой труд! С каждого произведенного тобой рубля фабрикант дает тебе пять копеек! Из которых две копейки заберет банкир, а копейку царь-батюшка. Сколько остается – две? Как бы не так! Еще копейку выдурит поп у твоей темной жены!
– Дело говорит! Точно! Верняк! – загудела толпа худосочных мужчин и женщин, разместившихся в беспорядке вокруг некрасивого оратора.
– А цены? Другие кровососы скупают задарма у нищих крестьян, чтобы продать тебе, товарищ, втридорога! Где справедливость? Попробуй, спроси! Мигом огребешь нагаек от казачков! А то и картечи от служивых, как в девятьсот пятом. Потому что нас считают быдлом!
– Суки!
– Мы не рабы!
– Кровью пусть своей умоются, твари!
– Поэтому мы не грабим этих лощеных господ! Нет! Мы забираем свое, награбленное у нас, обратно! И кровь этой швали всего лишь проценты по нашим, товарищи, счетам. Кто готов, кому до печени обрыдло все это, прошу к нам, в боевое звено, пристроим! Будет весело! У меня все, товарищи.
Коротконогий здоровячок прытко соскочил со сцены, намереваясь слиться с толпой слушателей, но китаец ловко ухватил его за рукав синей суконной рубахи.
– Боля! Ыдело есь! Хадима осюда!
– А, привет, дед! Давай, чего там у тебя?
– Тута глаза много. Нада поресять… ы кабинет отдельно! Тигра есь со мной!
– Не понял. Кто?
– Ызнакомися! Сирегей! Тигра! Хоресий бандит! Могусий дух! Как ты наравица! Я русяся!
– Чего ты? Ясней можно, а, дед?
– Ручается он за меня, – спокойно заметил Сергей.
Юркие глазки двумя угольками чиркнули по лицу Маруты, а толстые губы под неряшливыми усами растянулись в некое подобие улыбки. Крепыш, как бы еще сомневаясь, покрутил шарообразной коротко стриженной головой и нехотя протянул увесистую, как говяжья отбивная, ладонь:
– Борис. Дед еще никому таких дифирамбов не пел. Чо, всамделе бандит? Серьезно?
– Ну! Ы втера тиловека зарезал! Чик – и сё!
– Черт! Дед, мы ж договорились…
Борис неожиданно улыбнулся широко, всей хищной пастью, отчего еще больше стал похож на упитанную злую псину. – Отлично. Нам такие ребята позарез как надо! Пошли знакомиться, товарищ! Сергей, говоришь? А фамилия твоя?
– Фамилию дома забыл. Марутой можешь кликать.
– Ого! Азы конспирации уже знаешь! Приятное знакомство! Чую, сработаемся!
Борис открыл двери соседней комнатухи, гостеприимным жестом предлагая последовать за ним.
Сергей стремительно зашел внутрь вслед за низеньким китайцем и чуть не расшиб голову о низкий проем. Даже в глазах заискрило от многочисленных зайчиков, чуть ли не брызнувших из глаз. Сергей зашипел, почесывая ушибленную макушку, попытался осмотреться, но в комнате царил полумрак. Откуда-то из густой тени, сгустившейся по углам помещения, до Сергея донесся чей-то сдавленный смех. Марута развернулся резко в направлении звука, пытаясь рассмотреть весельчака. Из темноты выплыла статная девичья фигура и тут же протянула для рукопожатия узкую холеную ладонь.
– Какой же вы неловкий. Рада новой встрече, товарищ.
Сергей вздрогнул от знакомых интонаций. И, чуть помедлив, пожал холодную кисть женщины.
– Знакомьтесь. Мира. Мой заместитель по всем боевым вопросам. Ну и жена по совместительству.
– А мы уже знакомы. Это тот самый Марута, про которого я тебе рассказывала, Боря. Ловкий парень. Невезучий только. Так здорово, что встретились, правда?
– Да уж. Лучше поздно, чем никогда, – выдавил Сергей, оказавшийся совершенно не готовым к такому странному раскладу судьбы.
* * *Софья наколола щепы, сложила ее домиком в глубине широкого печного проема, поднесла зажженную спичку.
– Ма, с ума сошла? Лето, куда печку топить? – совсем по-взрослому спросила Ганна.
– Пирог спеку. С брусникой. Мишка любит.
– Ну-ну… Думаешь, если он молчит и ничего не ест, то ему твой пирог надо? Угу…
– А что делать? Надо же что-то делать. Сыночек мой, – Софья обессиленно рухнула на лавку, спрятала в опухших ладонях лицо с брызнувшими слезами.
– Дрына ему надо. Тоже, возомнил себя шляхтичем! Поделом!
– Не смей! Не тебе судить. Ссыкуха еще… – Софья выдохнула, выпрямилась, как пружина, поджала губы и решительно приказала: – мука в сенях, в коробе. Вот крынка. Полную неси!
Мишка сидел у окна, уставившись в одну точку, смотрел пустыми глазами во двор. Ему бы и хотелось встать, обнять Софью, уткнуться носом в родное плечо, погладить мать, успокоить как-то.
– Ничего, ма, все нормально. Все прошло.
Но вот беда, был он вроде бы тут, в избе, но видел себя и суетящуюся у печи мать и надувшуюся от легкой обиды Ганну как бы со стороны. Самое страшное, что тело совершенно его не слушалось. Ни слова сказать, ни рукой двинуть. Паралич, что ли? Хотя чего удивляться: этой ночью рухнул целый мир, светлый, радостный, полный надежд. Вчерашних надежд. А теперь… пепел на душе, да и только. Как будто кто-то взял и стер все краски, украл запахи, выключил ощущения. Пресный, безвкусный мир. Глухие звуки, доносящиеся до разума, как будто сквозь толстое одеяло, и не имеющие ровно никакого значения. Зачем так жить? У камня и то чувств поболе будет. Расстроиться бы, но и это чувство тоже погасло.
– Варенье в подполе! Сходи! Не стой, как дура! – Софья мимо собственной воли опять повысила голос и тяжко вздохнула, поймав себя на мысли, что срывает свою боль на дочке.
– Я не дура! Это Мишка твой – дурень! Носишься с долбнем, как с писаной торбой!
– Мне повторить?!
– Да не надо! Слышала! – губы у Ганны предательски затряслись, и она выскочила из хаты, ляпнув дверью так, что в окошках задребезжали хлипкие стекла.
«Не ссорьтесь. На пустом месте же. Да ну его, этот пирог. Зачем? Мне ничего не надо, – хотел бы сказать Мишка, но язык намертво прилип к небу. – К чему? Тени ссорятся, что с того? Пусть, это их дела. Что мне с того, когда и меня почти нет?»
Краешком взгляда Мишка уловил фигурку Ганны, юрко мелькнувшую по двору с ведром воды в руках. Пусть. Не интересно. Что с того, когда и двор, и Ганна, и вся предыдущая жизнь были где-то там, далеко-далеко, совсем на другом краю вселенной?
Опять ляпнули двери, да так, что иконы закачались в красном углу. Ганна, кипящая от переполняющих ее чувств, ворвалась в хату с полным ведром холодной колодезной воды и быстро, пока все не очухались, со всего маху окатила безучастное тело Мишки.
– На! Получай! Тоже мне панич! Пироги ему! Съел?!
Софья только и успела, что рот открыть от удивления. Батькин характерец. Еще одна Марута. Огонь-девка, мелькнуло в мозгу матери что-то вроде гордости.
Сердцу вдруг стало холодно, оно замерло на тысячу лет, и в тот момент, когда мертвая тьма готова была принять тело Мишки в вечное пользование, вдруг ухнуло и взорвалось обжигающими брызгами. Он и сам не сообразил, как что-то дремлющее в душе, сильное и яростное, вышвырнуло остывающее сознание Мишки прочь из мира голодных теней.
И чудо! Впервые за долгие часы он ощутил, почувствовал, как холодно, мокро и противно вот здесь, на земле, тут, в убогой, забытой Богом хате. Тело живо откликнулось, оно приобрело вес, окружающая обстановка стала резкой, а в нос шибануло острыми привычными когда-то запахами. Пахло печью, сыростью, кожей и старым деревом – жизнью.
А из сухого горла рвался помимо воли жуткий утробный стон. Еще мгновение, и неведомая сила бросила Мишку о пол. Огромное невыносимое горе лавиной закрутило туловище в тугую спираль, выперло изнутри криком, брызнуло солеными ручьями из глаз.
Испуганная Ганна и растерянная мать пытались как-то справиться с Мишкой, но он лишь вертелся ужом, спасаясь от их рук. Марута корчился, мычал, изо рта его бежала белая пена, он молотил лбом о дощатый пол, пытаясь разбить черепную коробку, в которой, как в перезревшем нарыве, гноем вспухали мерзкие воспоминания вчерашней ночи.
* * *Жаркое августовское солнце померкло. Тысячи ездоков бешено мчались, выбивая из сухой травы столбы пыли, повисшей в воздухе гигантским смертным саваном. Всадники таращили глаза, пытаясь высмотреть и проткнуть пикой суетящиеся где-то там, внизу, вопящие о пощаде серые фигурки немецких пехотинцев. Визг раненых, предсмертные хрипы упавших коней, клекот и свист пуль, косивших своих и чужих без разбору, прерывались лишь громкими выбухами артиллерийских снарядов. Широкие фонтаны из густого чернозема вперемешку с ошметками человеческого мяса взвивались кустами прямо в почерневшее небо.
Чтобы не сойти с ума от царившего на поле битвы хаоса, Стас попытался сконцентрироваться на чем-то значимом, но менее масштабном, чем пиршество смерти на кипящем в крови и поте обезумевшем, визжащей и корчащейся в муках человечине. В какой-то момент Стас осознал самое важное. Древний инстинкт диктовал мозгу: чтобы выжить в этой кровавой мясорубке, неимоверным усилием воли нужно разжать холодные пальцы страха, больно сжавшие горло; выдохнуть и начать делать тяжелую ратную работу – убивать людей, таких же, сделанных из мяса и костей, как и он сам, по чьей-то злой воле брошенных под колеса судьбы.
– Не стой! Сука! Зарублю! Тварь! – ефрейтор Кирюшкин широко размахнулся и со всей дури огрел Стаса по спине шашкой, в самый последний момент развернув ее плашмя.
Боль разлилась кипятком, Стас дернулся, зло ощерился, перехватил пику, чтобы воткнуть ее в обидчика, как щеку вдруг чем-то обожгло, словно в нее впился разозленный шершень. В голове зазвенело. Стас почувствовал, как что-то горячее и липкое льется на грудь и за шиворот.
Лошадь закрутилась юлой, Стас помутневшим взглядом смотрел на свои окровавленные руки, недоумевая, куда пропали все звуки.
Время остановилось. Будто со стороны, совершенно спокойно Стас наблюдал, как где-то там внизу, далеко-далеко, и в то же время так смертельно близко, пухлый немец с глупым конопатым лицом пытается перезарядить заклинивший карабин. Немец смотрел на него водянистыми серыми глазами, в которых читалось что-то похожее на просьбу «погоди чуть, видишь, какая история приключилась, дай секунду, сейчас перезаряжу и теперь уж не промахнусь. А, браток?»
Стас лишь пожал плечами и, удивляясь наивности конопатого вояки, ловко, без особых колебаний воткнул пику в немца. Холодно оценил: железное жало вошло ровнехонько в ямку под подбородком, туда, где начинает расти шея. Немец захрипел, схватился руками за копье, словно пытаясь вырвать его, но белки его глаз уже залились кровью и взгляд утратил всякую осмысленность.
«Вот так вот. Не ты меня. Я – тебя. Это Я! Тебя!» – шептал Стас, нервно пытаясь стряхнуть с древка обмякший куль рыхлого тела. А конопатый немец, как назло, все дергался заведенной механической куклой, и каждое его движение полосовало бритвой по душе Стаса, не успевшей пока заматереть в своем первом бою.
Не успел пухлый немец свалиться в траву, чтобы быть растоптанным тысячью копыт, война для Стаса стала простой и понятной, как смерть, как жизнь.
Чего проще? Хочешь выжить, сбивайся в стаю с такими же, как сам, руби, стреляй, рви зубами тех, кто посмел покуситься на жизнь твою и твоих братьев, таких же беспощадных убийц, как ты сам. И не думай долго. Все, кто думал, – мертвы. Все, кто поддался страху, – мертвы или будут мертвы. Все, кто захотел выжить поодиночке, – мертвы. Все, кто не принял эти простые правила, – мертвецы, корм ворон и червей.
И тут же, с осознанием простой истины, забурлила в крови радость. И сразу тело стало гибким, ловким и сильным, будто древний зверь проснулся внутри, рванулся и выпрыгнул наружу, навстречу привычной для него кровавой бане, по-животному радуясь чужой агонии, вторя крикам умирающих врагов своим яростным рычанием.
И понеслось! Что с того, что пика сломалась в грудной клетке очередного пронзенного пруссака? Шашка сама прыгнула в руку, а через секунду она развалила чью-то бедовую голову в остроконечном пикельхейме пополам, как мягкую подмороженную тыкву. Каким-то седьмым чувством Стас почуял, что откуда-то сзади птицей мелькнула разящая чужая сабля. Сам не понял, какая неведомая сила выбросила тело вниз и влево, наклонив его почти параллельно земле. Свистнул над грудью рассекаемый воздух, а крепкий всадник в чужой форме с позолоченными пуговицами по инерции чуть не вылетел из седла. Опытный вояка, пытаясь исправить оплошность, тут же рубанул в противоположном направлении, пытаясь достать этого юркого русского, но было поздно. Стас жестко, с оттяжкой полоснул по ненавистному вражескому мундиру, и из живота соперника вывалилась синяя требуха. Мощный немецкий битюг, почуяв страшное, вздыбился, захрипел, вытаращил безумные глаза и понес умирающего хозяина прочь, прямо по шевелящимся телам раненых и убитых. За всадником потерянным грязным бельем тянулись его собственные кишки.
Стас хохотал вслед ускакавшему покойнику: картина показалась ему забавной. Но тут же смолк, понимая, что, наверное, сходит с ума.
В середине людского водоворота мелькал триколор полкового знамени. Стяг то падал, то снова взмывал над толпой яростно рубящих и колющих друг друга людей. Знаменосец, прапорщик Остроумов, со свистом вращал шашкой, прорубая бордовую от крови просеку через наседавших на него немцев. Так продолжалось долго, пока совсем рядом с героем рванул прилетевший невесть откуда снаряд.
– Эх, братцы! Пропадаю! Подмогни! Эх, кто-нибудь! – проорал Остроумов, падая вместе с конем в копошащуюся в пыли массу вопящих на чужом языке людей.
Сколько раз Стас ни пытался восстановить в памяти те события, но у него не получилось вспомнить, каким таким чудом он оказался рядом с прапорщиком, ведь было до того метров двести сваленных в кучу людей и лошадей. И добраться до упавшего знамени в мгновение ока не получилось бы никак по физическим законам. Но, видно, Бог благоволит храбрым и сумасшедшим. Каким-то чудом удалось Стасу разбросать свору огрызающихся плоскими штыками немецких пехотинцев. Те, кто уцелел от яростно врезающейся в плоть сабли, отпрянули, побежали, как стая побитых дворовых шавок от исколотого в лохмотья, плавающего в луже собственной и чужой крови, прапорщика.
Стас в доли секунды спешился. Быстро, чуть ли не походя, развалил шашкой туловища пары замешкавшихся немцев, и подбежал к прапорщику. Он лежал на животе, всем телом прикрывая пропитанное бурой грязью полотнище. Стас перевернул мертвеца. Остроумова было не узнать, вместо лица у него была коричневая, топорщившаяся лохмотьями кожи, застывшая маска. Стас попытался разжать белые еще теплые ладони знаменосца, но тот намертво вцепился в древко, словно там, куда унеслась его душа, он продолжал свой личный неравный бой.

