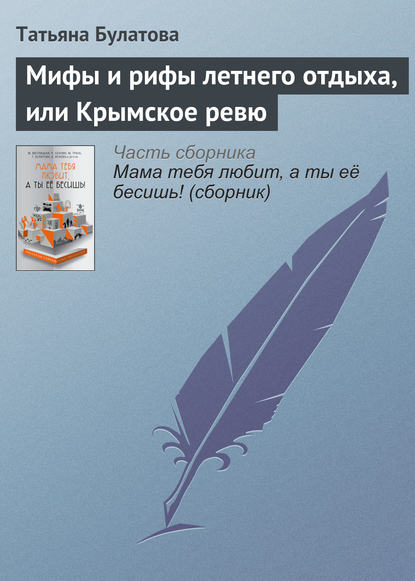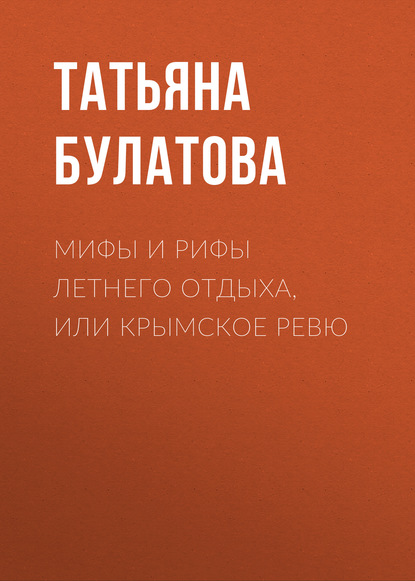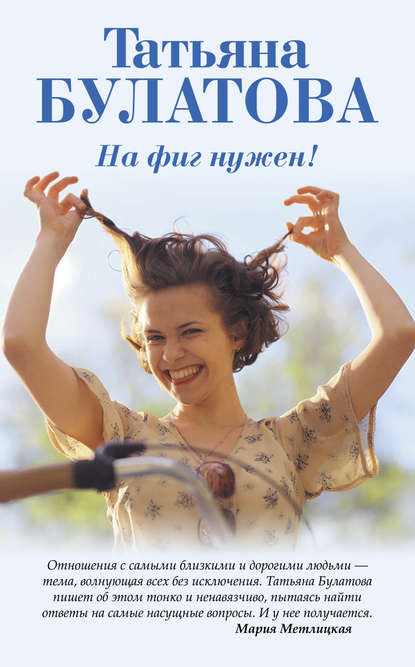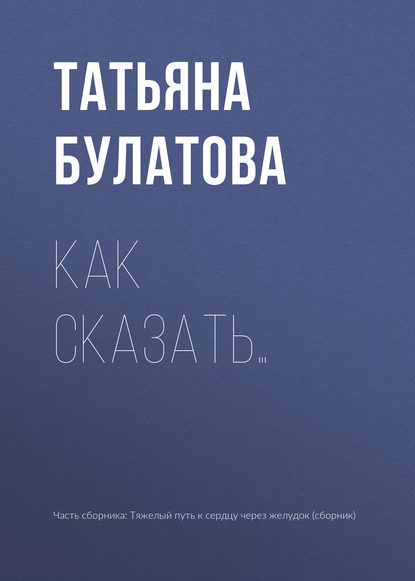Полная версия
Большое сердце маленькой женщины
– Я приду, – тихо произнесла Егорова, после чего Илье в который раз за вечер стало не по себе. «Как она это делает?» – удивился он, отметив, что та словно читает его мысли. – Сказала – приду, значит, приду.
Рузвельт улыбнулся ее словам, уловив знакомую Танькину интонацию – «Приду – значит, приду». Он помнил ее по школе, по занятиям физикой в библиотеке, по немногочисленным прогулкам по городу. Теперь Илья был на сто процентов уверен: раз пообещала, значит, сделает.
– Может быть, я все-таки тебя провожу? – Ему не хотелось расставаться с Егоровой.
– Еще чего! – возмутилась Танька и фактически втолкнула его в подъезд.
Втолкнула и, не отрывая глаз от двери, пару раз выдохнула. Постояла еще немного, подождала и, перекрестив дверь, побрела прочь, не разбирая пути. Пот лил с нее градом, ноги казались свинцовыми, но тем не менее Егорова улыбалась, потому что, как она сама говорила, «что-то сустроила» и «что-то вышло».
Эта манера говорить загадками показалась Русецкому невероятно притягательной. Сбросив куртку прямо у порога, Илья, не разуваясь, подошел к кровати и брякнулся на нее со всего маху. Давно ему не было так хорошо, так спокойно и радостно. Впервые за много лет качество прожитого вечера определялось не количеством выпитого, а ценностью состоявшейся встречи. Словно и не прошло тридцати с лишним лет: с чего начали, тем и закончили. А может, наоборот: чем закончили, с того и начали.
Рузвельт покачивался на кровати и рассматривал потолок, постепенно погружаясь в дрему. А если и не в дрему, то в какое-то странное состояние, при котором он вновь «видел» перед собой узкую асфальтированную дорожку и шел по ней, а потом недобро сверкнули две перевернутые запятые и появилось ощущение, что внутри зашевелился еще один Илья, или не Илья, а кто-то Другой. И стало тесно, заломило плечо, заныла грудь…
«Ужас какой!» – задыхаясь, вынырнул Русецкий из забытья, с трудом поднялся с кровати и бросился к балкону. Впрочем, бросился – это слишком громко сказано, еле дотащился, тяжело переставляя ноги. Отодвинув шпингалет, Илья выглянул на улицу – снегопад закончился, стало морознее. Илья с опаской подошел к балконному ограждению и остановился. Мучительно потянуло вниз. «А что? Одно-единственное движение – и всё! Полная свобода. В первую очередь от себя самого», – подумал Рузвельт и перевесился через перила. «Говорят, земля манит», – вспомнился ему штамп, используемый сочинителями в описании самоубийц. «Ерунда это все», – ухмыльнулся Русецкий и посмотрел в ту сторону, куда, показалось ему, должна была направиться Танька. И каково же было его удивление, когда перед ним предстал негатив того самого сна, который он видел время от времени.
«Чертовщина какая-то!» – пробормотал Илья и потер глаза – негатив остался, а вместе с ним и ощущение, что сейчас в просвете между двумя огромными тополями появится крошечная женская фигурка… Но как Русецкий ни вглядывался старательно в даль, ничего не изменилось, только стало очень холодно. Поэтому, вернувшись в комнату, он подобрал брошенную у порога куртку, надел ее и снова улегся на кровать, представляя, как завтра к нему войдет Егорова, сядет к столу… «К какому?» – сообразил вдруг Илья: никакого стола не было, вместо него последние полгода использовался широкий подоконник, заваленный недочитанными книгами, неоплаченными коммунальными счетами, заставленный давно не мытыми стаканами… Илье стало неловко, но вместо того, чтобы привести комнату в порядок, он уткнулся в подушку и долго лежал, прокручивая в памяти сегодняшнюю встречу с Егоровой, сцену на детской площадке. Еще он попытался вновь погрузиться в пьянящее состояние легкой дремы, вместе с которым всплывают интригующие фрагменты знакомого сна, но безуспешно. Вместо знакомых кадров привиделось вообще что-то странное: на какое-то мгновение Рузвельту показалось, что он краем глаза видит человека, пересекающего его комнату. Только это был не совсем человек, а скорее его бледная копия, лишенная естественной плотности, но при этом она передвигалась в пространстве точно так же, как все обычные люди.
«Чушь!» – потряс головой Русецкий и широко раскрыл глаза: комната была пуста, под потолком неровно – видимо, от перепадов напряжения – горела лампочка, свет был мутным и вязким, словно незастывший воск. Илья знал, что с ним все в порядке, что сознание у него сохранно, так как выпитого сегодня явно недостаточно для возникновения делирия. Тоска сжала сердце Русецкого с такой силой, что тот чуть не заплакал: «Что происходит?» На первый взгляд ничего особенного, из ряда вон выходящего, но тем не менее что-то происходило, просто оно не имело названия и не определялось словами.
В метаниях прошла ночь: Илье становилось то жарко, то холодно, то страшно, то смешно, его то мучила жажда, то мутило. Но он был уверен, что это странное состояние не имеет ничего общего с похмельем, это была какая-то другая болезнь, прежде ему неведомая. Надо ли говорить, что Русецкий поджидал утро с таким нетерпением, с каким нечистая сила прислушивается к пению петуха. Однако, как ни подгонял Рузвельт рассвет, тот все равно наступил неожиданно. «Значит, спал», – решил Илья, блаженно вытянувшись на кровати. Исчез ночной морок, а вместе с ним и странное ощущение присутствия в доме чужого человека. Русецкий снова заснул.
Так же, как и Илья, практически не спала в эту ночь и Танька Егорова, бродившая по квартире, как призрак, к неудовольствию мужа и черного кота Кузи, периодически подававшего голос с кухонного пенала, откуда независимое животное наблюдало за передвижением вверенных ему «человеков». Кузя был в доме главным, это признавала даже Танька, мотавшаяся на рынок за каким-то особым видом кильки-тюльки, потому что все остальные сорта рыбы кот решительно отвергал.
– У-у-у, зараза, – ворчала Егорова, обнаруживая в разных местах квартиры тщательно запрятанные рыбные останки, но стоило мужу замахнуться на «этого паразита», как она тут же вставала на защиту кота.
– Я его кастрирую, – обещал супруг расправиться с «дармоедом», но спустя какое-то время менял гнев на милость и собственноручно открывал Кузе форточку, чтобы тот мог отдаться зову природы. Через дверь кот дом никогда не покидал, только поверху, благо жили на первом этаже.
Между прочим, кота Танька ценила не только за его свободолюбивый нрав, но и за особую чувствительность. Спал он исключительно у Егоровой в изголовье и ложился туда, как правило, только когда ей требовалось освободиться от «нахапанной» энергетики тех, кого лечила. По реакции кота Танька распознавала тайный умысел человека, пришедшего в дом. Бывало, Кузя бросался на ноги визитерам или шипел, забившись под кресло. Если же кот не покидал своего облюбованного места на кухне, все было нормально. Вот и сейчас, свесив передние лапы с пенала, он преспокойно поглядывал на расхаживающую в темноте хозяйку, пока та не зажгла свечу и не присела.
Мерцающий в темноте огонек привлек внимание кота, тот спустился со своей верхотуры и уселся на подоконнике.
– Не спишь? – спросила у него Танька и забормотала слова молитвы, чей текст не имел ничего общего с каноническим. Больше это напоминало народное православие, в котором можно было обнаружить приметы заговоров на случай: «Иисус Христос впереди, Богородица – позади, Ангелы-Хранители – по бокам, что будет им, то будет нам, они помогут нам…» и так далее.
Безусловно, периодически Танька читала то Символ Веры, то «Богородице, дево, радуйся…», то «Отче наш…», но знахарского в ее речах было ничуть не меньше, и досталось оно ей от мамы-покойницы. Малообразованная женщина, родившая семерых, обладала тайным знанием, позволявшим сохранить жизнь собственным детям, оградить их от дурного глаза. Все она делала с молитвой: замешивала ли тесто на пироги, варила ли обед, запускала ли в кипяток яйца, готовила ли дом к Пасхе… А еще, помнила Егорова, мать умудрялась использовать для лечения все, что попадалось под руку: землю, кору, голубиный помет, не говоря уж о разных травах. В них мать разбиралась и ее, Таняту, научила. Не сразу, а постепенно передавала она дочери знания об окружающем мире, неспешно объясняя, откуда что берется. Многого девочка не понимала и, возможно, дар, перешедший ей от матери, никогда бы не освоила, если бы не знала, что дан он на благо. «Не просят – не делай. Попросили – помоги. Дадут – возьмешь, не дадут – делай просто так, по-человечьи, по-божески». В сознании Танькиной матери человек и Бог легко уживались рядом. Последний был как член семьи, просто рангом постарше. И с ним вполне можно было договориться, главное – соблюдать правила. И первое из них – «молчи, раз не спрашивают». Главное правило, можно сказать, золотое. Иначе – прямая дорога в психушку, об этом мать Таньку предупредила, как только та поделилась своим открытием.
Злосчастная физика. Точнее – учитель, худой, перекошенный на один бок. Глядя на него, Егорова забывала собственное имя. И это понятно: не дай бог увидеть то, что открывалось ее взору. Егорова весьма приблизительно представляла, как выглядят человеческие органы, но уже тогда понимала, что чернота, разлившаяся внутри этого человека, – свидетельство неминуемой смерти. От недели к неделе темнота внутри учителя становилась все более концентрированной, и, когда тот не вышел на занятия, Танька поняла: он никогда больше не вернется, потому что с этим ничего поделать нельзя.
О своих открытиях Егорова рассказала матери не сразу, да та ее и не торопила, потому что понимала: дочь должна привыкнуть к новому состоянию. И только когда мать обнаружила Таньку блюющей возле забора, она поинтересовалась, не «спорола ли та чего лишнего». Немногословная Егорова расплакалась и поведала матери о болезни учителя и о том, что она видит внутри его тела.
– Никому об этом не рассказывай, Танята, – предупредила ее мать и с трудом удержалась от жалобы Всевышнему: зачем, мол, девчонку на такой путь поставил? Разве меня мало? Она знала, о чем говорила, и не хотела для своей дочери тяжелых испытаний, ибо понимала: за дар придется заплатить, и не исключено, что ценою больших потерь. «Матушка Владычица, Пресвятая Богородица, сохрани мою девочку от несчастий, болезней, от злых людей!» – взмолилась она и погладила Таньку по голове: знакомый жар полыхнул в ладонь, волосы у девочки были мокрыми от пота.
– Не буду, – пообещала ей дочь и слово свое сдержала, даже Илье, соседу по парте, ни слова не сказала. – «Думай что хочешь», – через силу улыбалась она ему и с легкостью щелкала задачку за задачкой по физике во время их занятий в библиотеке.
Русецкий ей нравился, но не так, как нравятся мальчики девочкам, по-другому. Видела она в нем человека несчастного, невзирая на громкий список его побед в любой отрасли знаний. Все прочили Илье путь прямой и широкий, а Танька знала: никуда по этой дороге он не дойдет. Не будет ее, этой дороги, что-то помешает, только что? Она хотела предупредить Рузвельта, но не знала, как это сделать, кроме условных «я чую», «мне ведомо», ничего в голову не лезло, а уговорить Русецкого поверить в то, чего в природе вроде бы и не существует, казалось ей невозможным.
Рядом с Ильей Егорова испытывала странное чувство: с одной стороны, было ей весело и легко, с другой – зябко, тянуло каким-то странным холодом. Но исходил он не от него, сам Русецкий был на ощупь жилистым и теплым, кровь бурлила в нем, как фонтанчик в городском парке. Она хотела спросить об Илье у матери, но опасалась услышать правду, почему-то ей казалось, что правда обязательно окажется не в его пользу и ничего нельзя будет исправить, получится так же, как с учителем физики. Возможно, поэтому Танька так и не решилась пригласить Рузвельта домой, было страшно представить его матери. Но та словно почувствовала и ответила на немой вопрос:
– Нельзя тебе с ним. Заказано.
Егорова вздрогнула:
– Почему?
– Разве ж я знаю, – пожала плечами мать, раскатывая тесто на пироги, а потом согнулась вдвое и пожаловалась на боль «в середке». – Подержи руку-то, – попросила она Таньку и повела ее за собой в крохотную спаленку, которую когда-то делила с мужем, прожившим короткий мужицкий век и запомнившимся детям привычным окриком: «А ну, анафема тебя в бок!» – Посиди со мной. – Голос у матери разом стал тихим и слабым.
– Может, доктора? – запаниковала Танька, но та быстро ее успокоила:
– Когда дело божье, не до докторов. Послушай лучше…
Так буквально в три дня Егорова приняла от матери немудреную науку помощи людям, которую усвоила на всю жизнь, и ни разу не пожаловалась на страшную цену, которую за нее заплатила. Схоронив мать, Танька осознала, что откуда ни возьмись в ее памяти осели неведомые ей раньше слова, – много слов, за всю жизнь не выучишь, – но она их знала. И дело с концом.
Илье о смерти матери Егорова почему-то не сказала ни слова. А он, похоже, и не заметил ни Танькиной грусти, ни воспаленных глаз, ни болезненной худобы.
Целый год Танька проучилась на расстоянии от Русецкого. Прежде внимательный к ней как к сестре, он вдруг отдалился, пересел на заднюю парту и будто забыл о ее существовании. Егорова не задала ни одного лишнего вопроса, потому что помнила: «Нельзя тебе с ним. Заказано». «Нет так нет», – решила Танька и попыталась выбросить Илью из головы. И вроде бы получилось, но время от времени она вспоминала их «Эм и Жэ держали землю на вожже», и ей становилось грустно. Грустно от невысказанных слов, от непережитых встреч и от невозможности стереть это «Нельзя… Заказано».
Егорова не виделась со своими одноклассниками целую вечность. За это время она успела окончить техникум, выйти замуж, какое-то время поработать на заводе во вредном цехе, надышаться там свинцовым припоем, но это не помешало ей родить двух девчонок и в девяностые годы перекроить свою жизнь заново: уйти из профессии, отделиться от дурковатой свекрови с замашками сельской царевны, сесть за руль истерзанного многочисленными владельцами «Мерседеса» и заявить о себе как о потомственной целительнице. «А чем не потомственная-то?» – рассудила Егорова и храбро пустилась в путь, суливший ей новый уровень благосостояния, зависевший теперь не от выработки на производстве, а от нее самой. Правда, для этого нужны были документы о так называемых экстрасенсорных способностях, но за ними дело не стало. Танька рвалась к тайным знаниям с остервенением, колесила по стране, занимая в долг, перебиваясь разовыми заработками, училась у Гробового, у Джуны, активно посещала сборища магов и колдунов, пафосно называемых «съездами целителей» или «симпозиумами по нетрадиционной медицине». Егорова бесстрашно шла на контакт с любым, кто мог приоткрыть для нее завесу над новой профессией, отсутствующей в официальном перечне специальностей, известных в нашей стране.
Очень скоро Танька поняла, что людей, наделенных исключительными способностями, не так уж много. Зато шарлатанов хоть отбавляй, авантюристов везде хватало. Они смело открывали кабинеты, салоны, центры нетрадиционной медицины, громко именовали себя целителями, но на деле все были заняты только одним – сбором денег. Егоровой, разумеется, тоже хотелось разбогатеть, но она так и не смогла забыть материнский наказ и цену за свои услуги называла символическую, ну, например, «сколько дадите». За эту склонность к благотворительности товарищи по цеху стали посматривать на Таньку с опаской, но те, кто похитрее, активно приглашали ее присоединиться к ним, понимая, что работает та в честную, а значит, рано или поздно клиентов станет хоть отбавляй. Егорова по наивности не сразу догадывалась, каковы истинные намерения ее коллег, и соглашалась на сотрудничество, вытягивая своими трудами общую кассу. А когда наконец приходила к выводу, что ее откровенно используют, уходила по-английски, не прощаясь, не выясняя отношений и соответственно не требуя выплат за проведенное лечение.
После нескольких подобных случаев Танька все-таки решилась работать самостоятельно и надумала открыть собственный кабинет. Но как только перед ней встал вопрос лицензирования, она растерялась. «Поможем», – с готовностью пообещали ей сотрудницы облздравотдела, обращавшиеся к ней по любому поводу – «дорогу открыть», «порчу снять», «детей на путь истинный наставить». Слухи о Егоровой ползли по городу с молниеносной скоростью, желающих «помочь» становилось все больше. Но вместе с ними рос и поток страждущих, щедро вываливавших на Таньку свои страхи, болезни, неудачи и горести. Так незаметно она перестала принадлежать себе и своей семье.
Все чаще и чаще Егорова ловила себя на мысли, что живет чужой жизнью, устраивает чужие судьбы, разгребает чужое дерьмо. «Я как пылесос», – грустно подшучивала над собой Танька, не отваживаясь пожаловаться мужу на то, как устала, как болят руки, темнеет в глазах и кружится голова. «Надо, надо, надо», – продолжала она бороться с привычной ненавистной нищетой и одерживала победу за победой. Вот наконец-то своя квартира, вот море, дача, но почему-то легче так и не стало. Неожиданно выскочила замуж старшая дочь, не дождавшись положенных восемнадцати. Вторая, похоже, готовилась последовать примеру сестры. «Жить торопятся», – грустила Егорова, не понимая, что не жить торопятся ее девочки, а побыстрее вырваться из родительского дома хотят, до того им это общежитие обрыдло: и днем и ночью чужие люди, и это при том, что был у матери свой кабинет, вечный запах ладана, треск свечей, завернутые в тетрадные листки ржавые иголки, булавки, глиняные черепки, шерстяные спутанные косички…
Ко всему прочему Егорову часто томило дурное предчувствие: все ждала – что-то случится, причем обязательно со своими. Так и произошло. А все потому, что доверилась людям и нарушила непреложный закон, да еще и с Божьим именем. А все эта жалость, всегда в ущерб себе! Привели девушку, по виду ровесницу старшей Танькиной дочери, беременную, рожать нельзя из-за порока сердца, не выдержит. Мать на коленях стояла, молила помочь, избавить от ребенка, просила дочь сохранить.
– Какой срок? – Егорова эту тему не любила, да и мать строго-настрого наказывала никогда подобным не заниматься, потому как за такой грех отвечать придется. И надо отдать должное Таньке – соблюдала материнский завет безукоризненно. А тут надо же – нечистый попутал. Переспросила еще: – Точно такой?
– Точно!
Оказалось, все не так: и срок гораздо больше указанного, и никакого порока сердца у девицы отродясь не бывало. Точнее, порок-то имел место, не исключено даже, что не один, но среди них сердечного не было. В общем, всеми правдами и неправдами, но Егоровой удалось поспособствовать освобождению от нежелательной беременности шестнадцатилетней дуры. Невзирая на клятвенное заверение держать язык за зубами, слух о том, что существует способ, позволяющий избавиться от побочных эффектов плотского греха, да еще и безоперационно, разнесся по городу с молниеносной скоростью. Благодаря этому к Таньке выстроилась целая очередь жаждущих, к чему, надо сказать, она не была готова. «Нет, нет, нет и еще раз нет», – возопила Егорова и на какое-то время осталась без клиентуры, что тут же отразилось на состоянии семейного бюджета.
«Будет день – будет и пища», – успокаивала себя Танька, но автоматически готовилась к броску, ждала удара. И тот не заставил себя ждать: первая беременность дочери закончилась выкидышем, вторую ждала та же участь.
– Я что, вообще не смогу родить? – пытала ее старшая, и Егорова, отводя глаза в сторону, привычно покрикивала:
– Давай, поговори у меня еще! Не сможет она родить! Сможешь! – говорила, а сама не очень-то верила, что получится, потому что видела: внизу живота шевелился темный клубок. «Перевязано», – вздыхала Танька и каждый день просила Богородицу пожалеть дочь, пока не поняла, что просить надо о прощении. «Виновата!» – каялась Егорова и словно искала для себя нового испытания в надежде «отработать» грех добрым делом.
Вселенная быстро откликнулась на ее запрос: привели ребенка с опухолью. Врачи сказали, неоперабельный, и отпустили домой умирать. «Не жилец», – поняла Танька, но приезжих не отпустила, сказала, попробует, но ничего не обещала. Она работала с этим мальчишкой несколько месяцев, день за днем отчитывая его, его родителей, всех родственников до седьмого колена. Иногда Егорова просила отца мальчика вывезти ее за город и бродила там часами в поисках травы, о которой если и было что-то известно, то только то, что она ее «почувствует». В итоге траву она так и не нашла, да она и не понадобилась: неизвестно, почему рост опухоли замедлился, и врачи решили оперировать, сославшись на какую-то капсулу, о чем сбивчиво поведали Таньке родители мальчика.
«Стянула, значит», – улыбнулась она себе под нос, а утром не смогла подняться с кровати. «Помирает», – ахнул про себя супруг, но вызвать «Скорую» Егорова не разрешила так же, как в свое время ее мать: «Божье дело… Какая уж тут «Скорая»?»
Несколько дней Танька ничего не ела, только пила святую воду, от всего остального ее выворачивало черной жижей. Егорова стала похожа на египетскую мумию из учебника истории: кости и отлакированная веками кожа. Несколько раз Танькина душа взмывала под потолок и следила оттуда за жалким трепыханием немощного тела, раздумывая, вернуться к нему или нет. И всякий раз возвращалась: жалко было бросать это, пусть и недолговечное, прибежище. Ощущение, что жизнь возвращается к ней, Егорова испытала, когда безудержно захотелось соленой рыбы. Рыбы и пива.
– С ума сошла?! – возразил муж, заподозрив, что слышит Танькин бред, но спорить не стал: а вдруг и правда последняя воля, тогда отказывать нельзя.
Пиво Танька только пригубила, рыбный плавник вывернула и долго держала во рту, причмокивая. Все последующие сутки она спала, а еще через день отказалась от кабинета и объявила о прекращении своей деятельности. Она поняла, что в следующий раз может просто не восстановиться.
– Вот и хорошо, – поддержали ее близкие, наивно полагая, что та сдержит свое обещание, ограничившись безвозмездной помощью родным и друзьям. Егорова тоже так думала, но был и ТОТ, кто «думал» иначе. Точнее – располагал. И воле ЕГО Танька подчинялась неукоснительно, только теперь происходило это не конвеерным способом, а от случая к случаю, как она любила говаривать, «по спросу-запросу». Поэтому Егорова никогда не бралась за лечение, если не получала благословения свыше.
На Илью оно, кстати, тоже было дадено. О том, что они с Русецким встретятся, Танька знала всегда, именно поэтому она с такой готовностью приняла предложение прийти на встречу с одноклассниками, хотя их коллективный образ давно стерся из ее памяти. А вот Илья, похоже, застрял там навечно. Егорова знала, что жизнь у него не сложилась, но в глубине души продолжала надеяться на то, что, может, все обошлось, попались ему на пути добрые люди, способные протянуть руку помощи… Надеялась, но сама себе не верила, иначе бы не звал, не являлся ночами, не стоял бы у края могилы, озираясь по сторонам: шагнуть – не шагнуть…
«Стой!» – кричала Егорова Рузвельту, пытаясь схватить того за руку, но не могла дотянуться, за Ильей стоял Другой, вязкий, непроницаемый для смертных, и с каждым днем он становился все больше, все сильнее… «Пора», – подгоняла себя Танька, но обязательно что-то не складывалось, не склеивалось. «Не пускают», – вздыхала Егорова и отступалась. Значит, не время. А потом оказалось в самый раз.
Как Русецкий вошел в кафе, Егорова не видела, но то, что он здесь, почувствовала сразу же. Танька нашла его безошибочно: он сидел за дальним концом стола, на отшибе, гость второго сорта, приглашенный из жалости. Еле вытерпела, чтобы не броситься сразу, боялась напугать – столько лет не виделись.
– Узнаешь? – только и спросила она, сделав все возможное, чтобы не задрожал голос от нахлынувшей радости.
– Узнаю, – ответил Илья, и в Егоровой все оборвалось: не узнал, не помнит, забыл, выбросил из памяти, как ненужную квитанцию.
«Не сдамся!» – приказала она себе и отчеканила «Эм и Же держали землю на вожже».
Эту фразу Танька повторяла весь вечер, как заклинание. Она была ее охранной грамотой, пропуском в мир детства, дружбы, а может быть, и первой любви. Или точнее – несостоявшейся первой любви.
Мысли о ней заставили Егорову вспомнить и слова матери, и бегство Рузвельта на заднюю парту, и летний день возле реки, после которого все оборвалось, словно и не существовало. «А ведь мог бы… – подумала Танька, но тут же сама себя остановила: – Не мог. Заказано». Егорова думала, что давно смирилась с этой несправедливостью, а оказалось, что в глубине сердца все еще жила крохотная обида на судьбу, на Илью, да что там говорить – и на себя саму, что не осмелилась, не нашла, не подсказала, не спасла…
«Глупости это все!» – вздыхала Танька, сидя за кухонным столом и уставившись в одну точку. Урчал забравшийся на колени кот, догорала свеча, Егорова ждала рассвета. А он все не наступал и не наступал: время остановилось. Танька просто ненавидела эти минуты, измерявшиеся часами, ибо знала: возникают они в исключительных случаях, когда даже наверху точно не знают – к добру ли, к худу ли. Вот и сегодня ей словно давали право выбора: подумай, может, не стоит, может, ну его, жила же без него столько лет и дальше жить будешь…