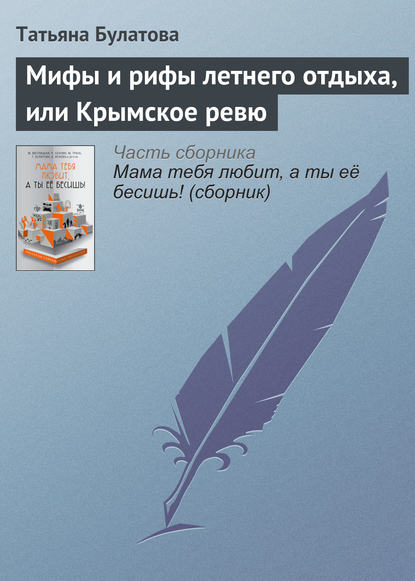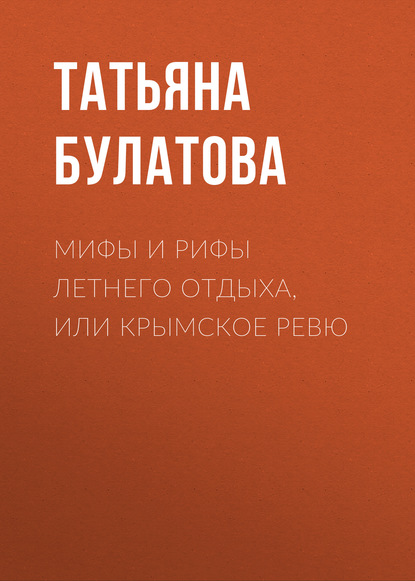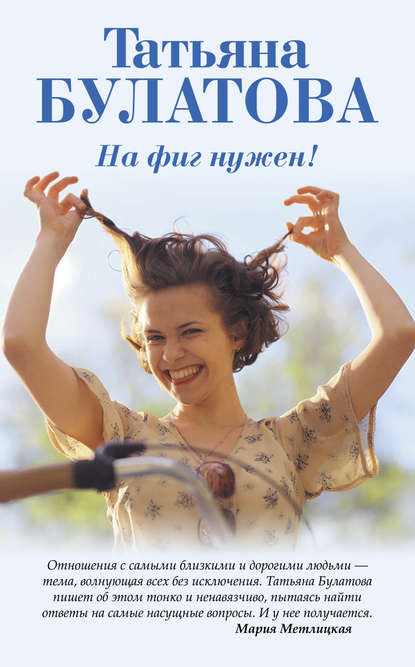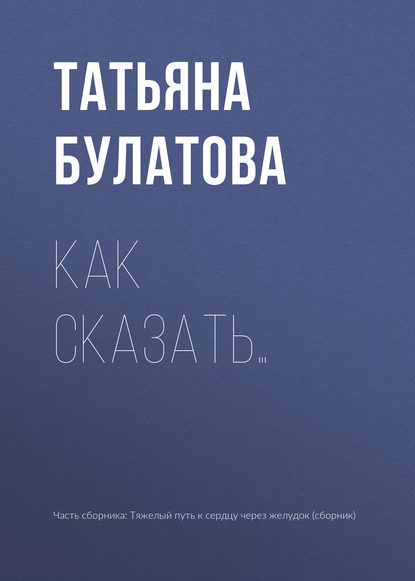Полная версия
Большое сердце маленькой женщины
Войдя в резонанс с энергией человеколюбия, Илья начал готовиться к вечернему походу: сил было еще не очень много, но все же они были. Их вполне хватило на то, чтобы выстирать под краном чуть тронутую сединой русую бороду, почистить доставшиеся в наследство от сбежавшего мужа заведующей хлебным магазином вельветовые брюки, найти галстук, который ему не понадобился, потому что не нашлось ни одной чистой рубашки. А потом силы закончились, но и нужды в них не было: с успокоенным сердцем Русецкий прилег на кровать в предвкушении сна. Вместо него на Илью опустилась легкая дрема, и от этого стало по-особому радостно: Рузвельт заскользил по волнам своей памяти, перебирая, как четки, строки любимых книг, среди которых чаще всего звучало дантовское «Казалось, ад с презреньем озирал». С ним на устах Илья погрузился в фазу глубокого сна и вынырнул из нее, когда на улице стемнело. Русецкий любил это время и сравнивал его с кулаком фокусника, из которого один за другим «вылупляются» разноцветные шарики, выстреливают бумажные растрепанные цветы и змеями вьются связанные друг с другом шелковые платочки. Потянувшись, он замер в ожидании: с темнотой приходило счастье, оживало измученное утренним похмельем тело и можно было рассчитывать на удачу, потому что мир милостив и щедр, не случайно Илья искренне считал себя везунчиком. И это ощущение какой-то особой фартовости служило ему своеобразным оберегом, благодаря которому он никогда не терял уверенности в завтрашнем дне и в том, что тот обязательно наступит. Более того, ничем другим просто нельзя было объяснить беспрецедентный оптимизм Русецкого, позволяющий ему с легкостью переносить многочисленные побои, падения, травмы, приведшие к ранней хромоте и практически полному отсутствию зубов, которое не скрывала даже благообразная борода. «Зато на полку класть нечего», – нашел небольшой плюс там, где его не было, Рузвельт и направился на встречу с бывшими одноклассниками.
Место, где она должна была состояться, Илья знал не понаслышке и дорогу к нему мог преодолеть буквально с закрытыми глазами. Кстати, очень часто так и происходило: ноги словно сами несли его к обетованному пределу, прозванному «реанимацией». На самом же деле название кафе носило пафосное и емкое – «Мемориа». Подходило и для свадеб, и для встреч одноклассников, и, разумеется, поминок. Последние Русецкий ждал с вожделением новобрачного: на скорбных обедах наливали всякому, такая традиция, а русский народ традиции уважал, особенно по отношению к покойным – так сказать, в последний путь и с легким сердцем.
У дверей единственного, а потому многофункционального кафе с громким названием уже толпились разгоряченные курильщики, моментально принявшие Илью в свое мужское братство под нарочито радостный возглас активиста: «А вот и наш Рузвельт!». И тогда каждый из присутствующих заторопился похлопать «нашего Рузвельта» по острому плечу, пожать его длиннопалую узловатую руку, выказывая абсолютную лояльность к неудачнику и внутренне радуясь тому, что сам-то – «точно не Рузвельт».
Мужественно выдержав снисходительно-благородный натиск бывших одноклассников, Илья попытался войти в кафе, чтобы как можно быстрее восстановить утраченный со вчерашнего дня внутренний баланс, но его все не отпускали и не отпускали, назойливо предлагая выкурить «еще по одной», не понимая, почему тот отказывается – «ведь на халяву же». Наконец Русецкий прорвался и оказался в упоительном тепле и нежном полумраке. Подскочил активист, захлопотал, замурлыкал и повел Илью к столу на заранее отведенное место, бодро приговаривая: «Сейчас поправишься, повеселеешь». И Рузвельт решил не церемониться, нащупал дрожащими пальцами винтовую пробку, отвернул, пару раз булькнул, и процесс возвращения к жизни пошел невиданными темпами. Настолько невиданными, что к середине вечера в теле появилась легкость необыкновенная, а душа воспарила, ликуя. И что особенно ценно: все словно забыли о нем, приклеившемся к краю стола, осоловевшем в тепле и щурившемся от разноцветных огоньков светомузыки. Все, да не все, как выяснилось. Вечер уже почти заканчивался, когда к Илье подсела небольшого роста женщина со взбитыми на затылке черными волосами, с расплывшимся по темному, словно лакированному лицу носом, острым подбородком и удивительно знакомым прищуром. Она буравила Рузвельта глазами, не произнося ни слова. Дождавшись, когда взгляд Русецкого приобрел некоторую осмысленность и сфокусировался на ней, женщина спросила:
– Узнаешь?
Этот задорный голос Илья точно где-то слышал, только вот где – никак вспомнить не получалось.
– Узнаю, – на всякий случай, чтобы не попасть впросак, подтвердил Русецкий.
– Ниче ты не узнаешь, – сказала женщина и заговорщицки произнесла: – Эм и Же держали землю на вожже!
Такое произнести могла только Егорова. Только Егорова зарифмовывала формулы для того, чтобы их запомнить, а подчас и понять. И эту «вожжу», вспомнил Илья, они придумали вместе, сидя в библиотеке, умирая со смеху, потому что иначе у Таньки ничего не клеилось, формула просто не подчинялась ей, если Егорова не умудрялась сделать ее простой и очевидной, как мир, как вода, хлеб, солнце и мама.
– Ты? – Рузвельт просто не смог выговорить ее имя.
– Я, – подтвердила Танька и утопила подбородок в ладонях, опершись локтями о стол (еще один фирменный жест Егоровой, способный передавать ее психологическое состояние. И сейчас, понял Илья, ей было грустно): – Постарела?
– Что ты! Нет, конечно, – с воодушевлением начал было Рузвельт, но Танька не дала ему договорить:
– Только не ври, терпеть этого не могу!
Она действительно сильно изменилась. «Сколько нам лет?» – озадачился Русецкий, лихорадочно пытаясь осуществить несложный, в сущности, расчет. Вырисовывалась цифра сорок семь, потом – сорок восемь. Танька – январская, в школу пошла с полных семи, как и он. «Сорок восемь», – повторил про себя Илья, но сама цифра для него ровным счетом ничего не значила. Разумеется, не двадцать, но как должна выглядеть женщина в сорок восемь лет, Рузвельт не понимал. Его мать ушла где-то в сорок пять, но уже тогда она казалась ему почти пожилым человеком.
– Ну… – Егорова потребовала, чтобы Илья хоть как-то отреагировал, но он не мог вымолвить ни слова и просто, как дурак, блаженно улыбался, глядя на нее. – И чё ты лыбишься? – Танька была, как и прежде, немного грубовата.
– Даже не знаю, что сказать, – растерянно пожал плечами Русецкий.
– Тогда зачем звал?
– Я?
– Ты, – подтвердила Егорова, а Илье показалось, что и правда звал, просто забыл: такое бывает.
На этом разговор расстроился, но Танька с места не двигалась и по-прежнему без всякого смущения разглядывала Илью. Он поежился и беспомощно завертел головой. Невзирая на стойкий иммунитет к чужому любопытству, даже ему чувствовать себя личинкой под микроскопом было не особо приятно.
– Чё крутишься, как вошь на гребешке?! – ухмыльнулась Егорова. – Им не до тебя.
И правда не до него. На минуту показалось, что их с Танькой отделяет от одноклассников прозрачная стена, за которой царило веселье, грохотала музыка и в вульгарном танце дергались человеческие силуэты… А здесь все было спокойно. И все же спокойно не было, потому что атмосфера вокруг них была наполнена каким-то удивительным напряжением, выражавшимся в особой проводимости мыслей от одного к другому. И это при том, что оба не произнесли ничего значимого. Тем не менее значимым было все, и Русецкий со стопроцентным попаданием понимал, что она ему «говорит» и что нужно делать прямо сейчас.
Ухода бородатого неудачника Ильи и непонятно откуда всплывшей Егоровой, о которой, собственно говоря, забыли сразу же, как только она покинула школу в возрасте пятнадцати лет, действительно никто из присутствующих не заметил. Ну, может быть, только активист, по-хозяйски осматривающий зал, да и тот тут же запамятовал, настолько незначащими были в его понимании люди. И пока продолжались праздничные конвульсии их одноклассников, эти двое тихо брели по направлению к школе, когда-то связавшей их. Сначала шли молча. Потом Русецкий все же решился задать вопрос, как сложилась Танькина жизнь.
– Да как у всех. – Егорова была немногословна. – Твоя как?
– Как видишь, – смутился Рузвельт, впервые за столько лет пожалевший о том, что рассказывать, собственно говоря, нечего. Одни прочерки в анкете: не был, не состоял, не привлекался, не родил, не придумал, не имел… Он хотел было поделиться с Танькой своими философскими открытиями, но не успел – та громко зевнула. Очень громко, уродливо раззявив рот.
– Не выспалась?
– Выспа-а-а-а… – начала отвечать Егорова, но выговорить до конца не сумела – рот снова перекосило в зевоте. Это было странно, даже для Рузвельта, никогда не судившего о людях по их манерам. Однако как человек начитанный он не мог не знать, что зевота – это физиологическое явление, которое может служить признаком как нехватки кислорода, так и психологического сопротивления, часто вызванного отсутствием интереса к собеседнику. Последнее почему-то задевало, хотя о каком интересе может идти речь, если они расстались тридцать два года тому назад? «Наоборот, – расстроился Илья, – наоборот, должно быть интересно… – И тут же сам себе возразил: – Да с какой стати?!»
Между тем Егорова начала зевать безостановочно, что выглядело просто чудовищно: лицо ее корежилось, из глаз текли слезы, а вместе с ними и краска. Танька стала похожа на истерзанного гнома, с трубным звуком разевающего рот.
– Тебе нехорошо?
– Норма-а-а-а-а… – Егорова не смогла выговорить слово полностью и стащила с себя белый норковый берет.
– Жарко? – сочувственно поинтересовался Рузвельт, но, увидев над Танькиным лбом мокрые слипшиеся пряди, тут же по-отечески строго произнес: – Надень, простудишься.
И Егорова тут же послушалась и нацепила на голову берет, причем сделала это без всякого кокетства, как бог на душу положит. Норковый берет и Танькино далекое от аристократизма лицо не очень-то уживались друг с другом, это было заметно даже Илье, не сумевшему сдержать улыбку.
– Вот чё ты ржешь? – возмутилась Егорова. – Чё смешного-то?
– Ты на эскимоса похожа, – признался Русецкий и аккуратно поправил берет: – Вот так особенно.
– Сам ты эскимос, – проворчала Танька и снова зевнула, но уже не так глубоко. – Ничё не чуешь? – заговорила она странно, вроде как по-старинному.
– Погода прекрасная.
Ответ Егорову явно не удовлетворил:
– А сам-то как? Ничё не чуешь? Ничё, ничё?
Илья не знал, что ответить. Вечер и правда был прекрасен: снег падал медленно, словно раздумывая, нежно светили фонари, Танька – рядом… Говорит, правда, как старая бабушка, хотя раньше вроде бы с речью у нее все было в порядке… Или он просто не замечал этих «чё», «ничё»? «Так замечал или не замечал?» – озадачился Рузвельт и пустился было по волнам памяти, но далеко уплыть не успел – Егорова дернула его за рукав:
– Ты давай не мякни! Не мякни. Далеко до дома-то?
– А ты что, меня провожать собралась? – хмыкнул в бороду Русецкий и остановился: – Я ведь, Танюша, сейчас в другом месте живу, не там, где раньше. Далеко.
– Не далече далека, – пробормотала Егорова и взяла Илью под руку так решительно, что тому показалось – бежать бесполезно, да и не хотелось. Русецкому нравилось все, а больше всего – разлившаяся внутри него самого истома, этакая нежащая слабость, из-за которой не хотелось двигаться, а хотелось присесть на первую попавшуюся скамейку, чтобы не расплескать редкое состояние душевного покоя, такое кратковременное в его изломанной градусом жизни.
– Устал, что ли? – Танька точно почувствовала его настроение, остановилась. – Ну давай подождем. Постоим, подышим.
Она говорила с ним, как мать с ребенком.
– До чего ж вы, мужики, народ хлипкий, – посетовала Егорова и поволокла Илью к детской площадке, засыпанной снегом. – Иди за мной, – приказала она ему и стала старательно утаптывать тропинку, в конце которой их ждал не очень-то гостеприимный, но все-таки уют в виде деревянного стола и двух лавок.
Смахнув снег, Танька постучала по скамейке ладонью:
– Ну чё ждем? Садись.
Илья послушно опустился и, засунув руки в карманы куртки, поежился.
– Замерз? – тут же заволновалась Егорова и начала похлопывать Рузвельта то по плечам, то по спине. В ответ Русецкий поморщился: такая активность начинала раздражать, но Танька снова уловила настроение друга детства и заворчала по-хозяйски: – Ничё, потерпишь!
Рузвельту стало стыдно. Он охотно верил, что Танька руководствовалась самыми добрыми побуждениями, и, наверное, в любой другой ситуации ее забота была бы ему приятна. Но как объяснить ей, что сейчас, в данную минуту, ему хочется покоя, по-ко-я и тишины?!
– Ну как? – отступилась Егорова и, подготовив место для себя, уселась напротив, зачем-то нарисовав указательным пальцем крест на покрытом снегом столе.
Это действие Илья растолковал как проявление внутреннего нежелания чистить стол голыми руками и рванулся помочь, но Танька его остановила:
– Не трогай, не помешает.
Какое-то время посидели в полной тишине. Егорова буровила Русецкого цепким взглядом, а тот в ответ улыбался, как блаженный. Теперь его уже не смущало Танькино присутствие: она оставила его в покое, перестала трясти, разговаривать. «Что может быть лучше?!» – радовался Илья, не чувствуя холода. Не мерзла и Егорова, то и дело сдвигавшая свое норковое достояние на затылок: берет ей явно мешал, она ощущала его чужеродность и купила, поддавшись на уговоры подруг и мужа, напоминавшего, что такой должен быть у всех нормальных женщин ее возраста. Самой Таньке вполне хватило бы невесомого капюшона спортивной куртки: захотела – надела, захотела – сняла. В свои сорок восемь лет она научилась ценить в одежде легкость и комфорт. А вот респектабельность… Этого она не понимала, невзирая на то, что в шкафу в качестве признака достатка пряталась норковая шуба. «Не по мне это все», – в очередной раз мысленно «взвыла» Егорова и в который раз за сегодняшний вечер оглядела Илью.
«Постарел. Рот беззубый. Куда дел, неизвестно. Неужели выбили? А может, не лечил просто… – составляла она внутренний протокол осмотра. – Куртка с чужого плеча, заплатки прямо по верху, сам, наверное, не женская рука… Рукава длинные, пальцы еле видны, грязь под ногтями… Пьет много, губы подрагивают, тени под глазами и белки в красных прожилках… Бомж? Нет, не бомж», – беззвучно сама себе ответила Танька и поинтересовалась:
– Один живешь?
Рузвельт молча кивнул.
– А жена? Бросила?
Жены у Ильи отродясь не было. После смерти матери на женщин он смотрел только в одном-единственном ключе – как на источник помощи, поэтому их возраст не имел для него абсолютно никакого значения, важным он считал только то, насколько бережно они относятся к его личному пространству. Означало ли это, что женщин в жизни Рузвельта не существовало? Вовсе нет. Помнится, терлись об него какие-то, разбитные, уродливые, податливые («обладательницы девственных мозгов» – снисходительно называл их Русецкий), но только вначале, пока был еще им интересен. А потом – с утратой квартиры – на тусклый свет его бедного жилища никого, кроме боевых подруг-однодневок, не влекло. Приходили они, как правило, в сопровождении товарищей, дурно пахнущие, похожие друг на друга, как будто лепили их по одному лекалу – обветренные лица и руки, растрескавшиеся губы, чуть выдвинутые вперед, характерно припухшие подглазья, пастозная одутловатость щек, худые мятые шеи и вязкая речь. Относиться к ним как к нормальным женщинам было невозможно, вопрос о женитьбе отпал сам собой. Да что и говорить, все вопросы рано или поздно оказывались снятыми с повестки дня, и сама повестка дня скоро оказалась сведена к двум пунктам: ночь простоять – день продержаться.
– И чё ты молчишь? Один, что ли? – продолжала допрос Егорова, все так же не сводя глаз с Рузвельта.
– Один, – подтвердил он, а потом, чуть помедлив, выложил руки на покрытый снегом стол. Под ладонями начало таять. – Смотри. – Илья поднял руки. – Здорово, да?
Танька нахмурилась:
– Ну что? – Лицо ее приобрело серьезное выражение. – Будешь рассказывать?
– А что рассказывать-то?
– Как докатился до такой жизни, – полушутя-полусерьезно подсказала Егорова и приготовилась слушать. Но Русецкий не успел вымолвить и слова – на детскую площадку откуда ни возьмись выскочила немецкая овчарка и громко залаяла.
– А вот и гости, – радостно поприветствовал ее Илья, но явно без взаимности: шерсть у собаки на загривке поднялась дыбом, она глухо рыкнула и оскалилась.
– Чья собака? – Танька завертела головой по сторонам.
– Моя. – На площадку шагнул хозяин, приземистый мужик в спортивных штанах и расстегнутых ботинках. Такая экипировка означала, что выгул собаки не обещал быть долгим – так, справить нужду, не больше. В руках у хозяина была обледеневшая палка, не поводок и не намордник. – А что?
– Детская площадка – не лучшее место для выгула собак, – строго произнесла Егорова, не сводя глаз с собаки, усевшейся возле Рузвельта – она как будто сторожила его.
– А ты кто такая, чтобы мне указывать? – Мужик подошел поближе и, шумно втянув воздух ноздрями, глумливо произнес: – Набухалась, что ли, вонючка кудлатая?!
– А ну проваливай! – спокойно ответила ему Танька, не вставая с места, и мужик оторопел: какая-то алкашка, как он думал, осмелилась ему перечить.
– А ты не боишься, сука, что я на тебя сейчас собаку натравлю? И на твоего собутыльника тоже?
– Только попробуй, – по-прежнему спокойно проронила Егорова, продолжая смотреть на периодически оскаливающую зубы овчарку.
– Тань, не надо, не связывайся, – попытался предостеречь ее Илья, на себе испытавший, что может последовать за этой перепалкой: зубов и так уже осталось наперечет, а сломанными руками и ногами его было не удивить. Собаки, правда, еще не драли, но предположить, что это не очень-то приятно, он вполне мог.
– Помолчи, – бросила ему Егорова и поднялась со скамейки: маленькая, она смело вышла навстречу врагу и практически по слогам проговорила: – Если вы сейчас не возьмете собаку на поводок, я буду вынуждена принять свои меры.
Мужик нагло зареготал и подозвал собаку, но только с одной целью – рявкнуть долгожданное «фас», чтобы вдоволь налюбоваться, как два пропитых алкаша будут драпать отсюда со всех ног.
– Я повторять не буду, – пригрозила ему Танька и сделала вперед еще полшага, не отводя глаз от агрессивно настроенной собаки.
– Я тоже, – пообещал ей мужик, а дальше все пошло не так, как должно: псина тоненько взвыла – именно взвыла, а не рявкнула, беспомощно оглянулась на оторопевшего хозяина, застывшего с открытым ртом, и легла на снег, послушно вытянув передние лапы.
– Фас! – заорал мужик, но овчарка не двинулась с места, покорно положив морду на лапы. – Фас, я сказал! – повторил ее хозяин, но собака, тоненько повизгивая, метнулась к подъезду, откуда имела неосторожность выскочить на улицу.
– Сам уйдешь или повторить? – Голос Егоровой звучал глухо, словно из подземелья, глаза посверкивали недобрым огнем.
– У-у-у, шалава! – прошипел посрамленный враг и, в сердцах отбросив палку, покинул детскую площадку, не прекращая бормотать проклятия.
Илья оцепенел.
– Что ты сделала? – только и сумел он вымолвить.
– Так, сустроила кое-что. – Танька была немногословна. – Пойдем, что ли, до дома тебя провожу, а то того и гляди от собак придется отбиваться.
Русецкий поднялся, как по команде, и послушно двинулся за Егоровой, забыв о том, что логичнее было ему проводить женщину, а не наоборот.
Через какое-то время Рузвельта начало заметно потряхивать, но озноб не имел ничего общего со знакомым ему физиологическим состоянием. Да и рановато было испытывать подобные ощущения, в чем-чем, а в этом Илья ошибиться не мог, многолетний опыт был тому порукой. Вместе с тем его не покидало ощущение, что происходит нечто странное: перед глазами всплывала знакомая асфальтированная дорожка, обрамленная кустами цветущей сирени, он даже чувствовал этот запах, навстречу ему плыло женское лицо с перевернутыми запятыми… Это был его сон, он узнал его, и уже ждал волны сердцебиения, и, прищурившись, смотрел вперед, ожидая увидеть знакомую женскую фигурку, но ничего не происходило, а сердце билось ровно, не проваливаясь в холодный пустой живот и не отдавая в ноющее плечо. Русецкий покосился на бредущую рядом Егорову и чуть не заплакал: стало безумно жалко потерянных лет.
– Слушай, Танька, а почему мы с тобой ни разу за все это время не встретились?
– Это ты так думаешь, – улыбнулась Егорова. – Вспомнил? Нет?
Рузвельт не понимал, о чем она его спрашивает. Может быть, сон рассказать? Про сирень, глаза-запятые, про крошечную женскую фигурку в просвете тополиных стволов… Женская фигурка… Танькина это фигурка, понял Илья, поэтому сердце и успокаивалось. Значит, права? Значит, виделись?
– Я, между прочим, о тебе всегда помнил… – Соврав, Русецкий даже не поморщился, ему и правда сейчас казалось, что помнил Егорову всегда, зато она громко шмыгнула носом и скрипуче рассмеялась:
– Да ладно тебе, не свисти!
– Правда, – с азартом бросился Илья разубеждать Таньку, но быстро остыл, почувствовав неловкость. – Иногда, – добавил он. – Во сне.
– Вот так и говори. – Егорова, похоже, осталась довольна. – Давно у тебя подселенец-то?
Рузвельт вытаращил глаза:
– Какой подселенец?
Первым делом Илья подумал о своих соседях – марийцах из Йошкар-Олы, с которыми последние десять лет он делил трехкомнатную квартиру в доме, безрезультатно дожидающемся сноса. Ольюш и Айвика, которых Русецкий считал бездетной супружеской парой, на поверку оказались братом и сестрой, состоявшими в гражданском браке. Об этом Илья узнал случайно, благодаря подобранному на улице товарищу по несчастью, по иронии судьбы тоже оказавшемуся марийцем. Он говорил о соседях Русецкого неодобрительно, с осуждением, грозил им карой божией, потому что те нарушили Закон. Какой именно, Илья уточнить не догадался и своего отношения к Айвике и Ольюшу не поменял, скорее наоборот – люди, способные противостоять устойчивым стереотипам, всегда вызывали у него уважение. К тому же он видел, как жили эти двое – замкнуто и тихо, гостей у них сроду не бывало, а его громогласных товарищей марийцы словно не замечали. Ольюш только печально покачивал головой, глядя вслед собутыльникам Рузвельта. Иногда, правда, к Айвике приходили какие-то женщины, часто со своими продуктами – то яйцами, то рыбой, то бутылкой подсолнечного масла. Заходили в дом, шептались в прихожей и робко шли за хозяйкой в одну из комнат, откуда потом слышались непонятные Илье слова, часто сопровождающиеся всхлипами, а подчас и рыданиями.
«Колдуит», – тревожно прошептала Русецкому старая Вагиза, на православную Пасху притащившая бедовому соседу крашеные яйца. Дом был интернациональным, жила она в нем всю жизнь и привыкла с уважением относиться ко всем религиозным праздникам.
– Не о том думаешь, – заявила Танька, как будто отслеживавшая движение его мыслей. – Твой дом?
Дом действительно был Русецкого: вот они, три этажа, обляпанные застекленными балконами, набитыми старыми досками, фанерными листами, банками да коробками. Илья никогда не видел, чтобы за прозрачными стенами этих уродливых конструкций росли цветы, людей за ними тоже никогда видно не было, возможно, по вполне банальной причине – просто некуда ступить.
Самому Рузвельту балкон достался без остекления, да и выносить на него было нечего – если только зимой остатки еды, потому что холодильник был давно продан местному лавочнику по имени Иссаметдин за какие-то копейки. Пару раз в год, когда распускались тополя или начинали зацветать липы, Илья выносил на балкон единственную табуретку, садился подальше от чугунного ограждения и судорожно вдыхал, с наслаждением вспоминая пастернаковские строки: «Так, воздух садовый, как соды настой, шипучкой играет от горечи тополя…»
«Господи! – подумал Рузвельт. – Какая красота! Никому не нужная, разбросанная по тысячам томов, пылящихся в городских, районных и домашних библиотеках. Подаренная миру истина, растасканная на цитаты для красного словца…»
– О чем думаешь? – Егорова, так и не дождавшись ответа от Русецкого, тронула его за плечо.
– Мой, говорю, дом. – Илья быстро включился в разговор. – Зайдешь?
– А чё я там у тебя не видала?
– Ну этих, подселенцев моих…
– Ну на них и смотреть необязательно, – зевнув, заявила Танька, а Русецкий повторил приглашение:
– Может, поднимешься?
– Не знаю даже. – Неожиданно Егорова смутилась. – А это удобно?
– А что неудобного-то? Зашла к бывшему однокласснику на чай.
– Не, не могу… Давай потом.
– Еще через тридцать лет? – с грустной иронией уточнил Илья.
– Зачем через тридцать? – Танька вдруг стала очень серьезной. – Завтра. А то, что я сегодня с пустыми руками…
«Не придет, – помрачнел Рузвельт. – Пообещает и не придет»