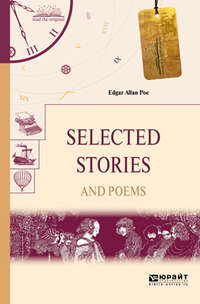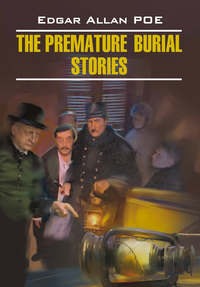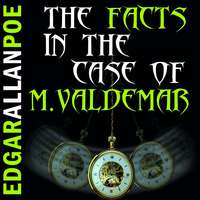Полная версия
Золотой жук
П. По-моему, ваша мысль об абсолютном уплотнении наталкивается на одно возражение, которое невозможно оспаривать; оно заключено в том ничтожно малом сопротивлении, которое испытывают небесные тела при своем обращении в мировом пространстве, сопротивлении, которое, как теперь установлено со всей очевидностью, существует в каких-то размерах, но настолько мало, что его совершенно не заметило даже Ньютоново всевидящее око. Мы знаем, что сопротивление тел зависит главным образом от их плотности. Абсолютное уплотнение даст абсолютную плотность. А там, где нет промежуточного пространства, не может быть и податливости. И абсолютно плотный эфир был бы для движения звезд преградой бесконечно более могучей, чем если бы они двигались в алмазной или железной среде.
В. Легкость ответа на ваше возражение прямо пропорциональна кажущейся невозможности на него ответить. Если уж говорить о движении звезды, то ведь совершенно одно и то же, звезда ли проходит через эфир или эфир сквозь звезду. И самое странное заблуждение в астрономии – это попытка совместить постоянно наблюдаемое замедление хода комет с их движением в эфире; потому что, какую бы большую разреженность эфира ни допустить, он бы остановил все обращение звезд гораздо раньше срока, положенного астрономами, которые всячески стараются смазать этот вопрос, оказавшийся выше их понимания. С другой же стороны, замедление, которое в действительности имеет место, можно было бы предвидеть заранее, учитывая трение эфира, мгновенно проходящего сквозь светило. В первом случае действие замедляющей силы должно быть единовременным и всецело замкнутым в себе самом, во втором – оно накапливается нескончаемо.
П. Но разве во всем этом – в вашем отождествлении простейшей материи с Богом – нет некоторого непочтения? (Усыпленный не сразу понял, что я имею в виду, и мне пришлось повторить свой вопрос.)
В. А вы можете объяснить, почему материя менее почтенна, чем дух? Но вы забыли, что та материя, о которой я говорю, и есть во всех отношениях именно тот самый «дух», «душа», о которых твердят ученые; она наделена всеми их высшими способностями и, более того, остается в то же самое время тем, что те же ученые называют «материей». Бог и все способности, приписываемые «духу», – это всего лишь совершеннейшее состояние материи.
П. Вы, стало быть, утверждаете, что нерасторжимая материя в движении есть мысль.
В. В общем, это движение есть вселенская мысль вселенского разума. Эта мысль созидает. Все, что сотворено, – это не более, как мысль Бога.
П. Вы говорите – «в общем».
В. Да. Вездесущий дух – это Бог. Для каждого нового отдельного бытия необходима материя.
П. Но вы говорите сейчас о «духе» и «материи» точь-в-точь, как метафизики.
В. Да – во избежание путаницы. Когда я говорю «дух», то имею в виду нерасторжимую материю или сверхматерию, под «материей» предполагается все остальное.
П. Вы говорили о том, что «для каждого нового отдельного бытия необходима материя».
В. Да, дух, существующий исключительно сам по себе, – только Бог. Для сотворения самостоятельного, мыслящего существа необходимо воплощение частицы Духа Божия. Так человек получает личное бытие. Без воплощения в телесную оболочку он был бы просто Богом. Ну а обособленное движение частных воплощений нерасторжимой материи – это мысль человеческая, точно так же, как общее ее движение – мысль Божия.
П. Так, по вашим словам, выходит, расставшись с телом, человек станет Богом?
В. (после мучительных колебаний). Я не мог так сказать, это – абсурд.
П. (справляется по своей записи). – Вы сказали, что «без воплощения в телесную оболочку человек был бы Богом».
В. И воистину. Таким образом, человек стал бы Богом – избавился бы от отдельности своего бытия. Но такого освобождения от плоти ему не дано или, во всяком случае, никогда такого с ним не бывает, иначе нам пришлось бы представить себе деяние Божие обращающимся вспять на самого Бога – бесцельным и бессмысленным. Человек – творение. Творения – суть мысли Божьи. А мысль по самой своей природе преходяща.
П. Не совсем понял. Вы говорите, что человеку не дано вовеки совлечь с себя телесную оболочку?
В. Я говорю, что он никогда не будет бестелесным.
П. Поясните.
В. Есть два вида телесности: зачаточная и полная – соответствующие состояниям гусеницы и бабочки. То, что мы называем словом «смерть», – всего лишь мучительное преображение. Наше нынешнее воплощение преходяще, предварительно, временно. А грядущее – совершенно, законченно, нетленно. Грядущая жизнь и есть осуществление предначертанного нам.
П. Но ведь метаморфоза гусеницы известна нам досконально.
В. Нам – безусловно, но не гусенице. Вещество, из которого состоит наше рудиментарное тело, по своим свойствам не выходит из пределов восприятия органов этого тела, или; точнее, – наши рудиментарные органы соответствуют веществу, из которого вылеплено наше рудиментарное тело, но материи нашего окончательного претворения они не соответствуют. И, таким образом, конечная наша телесность недоступна нашим рудиментарным чувствам, и мы способны ощущать лишь оболочку, которая спадет, чтобы истлеть, освободив скрытую форму; но и эта сокровенная форма, и оболочка равно доступны восприятию тех, кто уже достиг конечного бытия.
П. Вы часто говорили, что месмерическое состояние очень походит на смерть. Как это надо понимать?
В. Когда я говорю, что оно похоже на смерть, я имею в виду, что оно приближается к конечному бытию; потому что, когда я погружаюсь в транс, мои рудиментарные чувственные восприятия временно выключаются, и я воспринимаю внешние явления прямо, без опосредствования их органами чувств, а через посредника, который будет мне служить в предстоящей жизни, в которой нет нашей упорядоченности.
П. Нет упорядоченности?
В. Да, ведь органы – это приспособления, с помощью которых человек приводится в осмысленное отношение к одним видам и формам материи, а к другим – не приводится. Человеческие органы приспособлены к условиям рудиментарного бытия, и только к ним; и совершенно понятно, что предстоящее бытие человека не нуждается ни в какой организации, ибо оно подчинено прямо Божьей воле, то есть движению нерасторжимой материи. Вы сможете создать себе ясное понятие о теле конечного претворения, если представите себе его как сплошной мозг. Оно не таково; но такого рода допущение все-таки приблизит вас к пониманию, что же оно такое. От светящегося тела исходят волны в светоносный эфир. Он, в свою очередь, передает их на сетчатую оболочку глаза, от которой они передаются зрительному нерву. Нерв сообщает их мозгу; мозг – нерасторжимой материи, проходящей сквозь него. Движение этой последней есть мысль, волна которой начинает свой бег с перцепции. Так сознание в рудиментарной жизни сообщается с внешним миром, восприятие этого внешнего мира ограничено в рудиментарной жизни возможностями ее органов. А в предстоящей, не регламентированной органикой, жизни внешний мир воспринимается всем телом (которое состоит из вещества, наделенного, как я уже говорил, примерно теми же свойствами, что и мозг), и нет между ними никакого посредника, кроме эфира, даже еще более бесконечно разреженного, чем светоносный эфир; и все тело вибрирует вместе с этим эфиром, передавая свои колебания нерасторжимой материи. Именно отсутствию локализованности нашего восприятия органами чувств мы и обязаны в предстоящем бытии почти беспредельной восприимчивостью. Для рудиментарных существ органы чувств – клетки, в которых их держат, пока не оперятся.
П. Вы говорите о рудиментарных «существах». Но разве есть, кроме человека, еще и другие мыслящие существа?
В. Бесконечное многообразие разреженной материи в космических туманностях, планетах, солнцах и других телах, не являющихся ни туманностями, ни планетами, ни солнцами, единственно и предназначено для локализованных органов чувств бессчетных рудиментарных существ. Все эти тела необходимы для рудиментарной жизни, для предстоящего бытия, иначе их и не существовало бы вовсе. Каждое из них заселено определенной породой рудиментарных мыслящих существ, живущих органической жизнью. В общем, свойства органов чувств меняются в зависимости от места обитания этих существ. Когда же наступает смерть, или – метаморфоза, все эти создания, приобщаясь к предстоящей жизни, бессмертию и всех тайн, кроме одной, совершают любое действие и переносятся куда угодно, и для этого им не нужно ничего, кроме проявления воли; они обитают уже не на звездах, представляющихся нам единственной достоверностью и единственно для размещения которых, как мы в слепоте своей полагаем, пространство и создано, – а прямо в мировом пространстве, в бесконечности, сама истинносущностная безмерность которой поглощает эти звездные островки, не давая ангелам даже задерживать на них внимания, как словно бы их и не было.
П. Вот вы говорите, что «если бы не их необходимость для рудиментарной жизни, то звезд бы не существовало». Но откуда берется эта необходимость?
В. В неорганической жизни, как и в неживой материи вообще, не может быть никаких препятствий действию одного простого и не имеющего себе подобия закона божественной воли. Чтобы создать ему сопротивление, и была сотворена органическая материя, органическая жизнь (сложная, собственносущностная, стойкая в сопротивлении этому закону).
П. Но зачем же понадобилось создавать ему сопротивление?
В. Результатом, подчинения закону является совершенство, истинность, счастье как отсутствие страданий. Результатом же нарушения закона становятся несовершенство, неправедность и страдание как таковое. Из-за помех его осуществлению, которые возникают в силу множественности, сложности и собственносущности законов органической жизни и материи, становится практически возможной какая-то мера воздаяния за нарушение высшего закона. Так, невозможное в неорганической жизни, страдание становится возможным в органической.
П. А какая благая цель при этом достигается?
В. Все сущее хорошо или плохо в сравнении с чем-нибудь. Обстоятельное исследование убеждает, что наслаждение во всех случаях является не чем иным, как только противоположностью страдания. И в чистом виде наслаждение – фикция. Радость нам дается лишь там, где мы уже страдали. Не испытать страдания значило бы никогда не познать блаженства. Но я уже указывал, что в неорганической жизни страдание немыслимо, отсюда – необходимость в органической. Страдания в начальной, земной жизни являются залогом блаженства конечной, небесной жизни.
П. Вы употребили также и еще одно выражение, смысла которого я не уразумел: «истинносущностная безмерность бесконечности».
В. По всей видимости, причина этого в том, что само понятие «сущность» является у вас недостаточно общим. Его следует рассматривать не как качество, а как ощущение: у мыслящих существ оно является восприятием приспособления материи к собственному их устройству. На земле найдется немало такого, существования чего жители Венеры не могли бы воспринять, и многого, что на Венере видимо и осязаемо, мы бы не были в состоянии заметить и воспринять. Но для существ, не наделенных органичностью, для ангелов, – вся нерасторжимая материя является сущностью, то есть, иначе говоря, все, что мы определяем словом «пространство», для них – вещественнейшая реальность, и в то же время звезды – именно в силу того, что мы считаем доказательством их материальности, – оказываются вне восприятия ангелов, и эта их невосприимчивость прямо пропорциональна тому, в какой мере нерасторжимая материя – в силу тех своих свойств, которые заставляют ее казаться нам не материей вообще, – не поддается восприятию органической.
В то время, как усыпленный уже еле слышно договаривал эти последние слова, я заметил, что лицо его приняло странное выражение, которое встревожило меня и вынудило тут же разбудить его. Но не успел я этого сделать, как он с просветленной улыбкой, озарившей все лицо, откинулся на подушку и испустил дух. Я обратил внимание, что не прошло и минуты, как тело успело окоченеть и стало словно каменным. Лоб его был холоден, как лед. Так обычно бывает лишь после того, как рука Азраила уже долго сжимала человека. Неужели и вправду усыпленный мной со своими последними рассуждениями обращался ко мне уже из царства теней?
Mellonta tauta[4]
(в переводе З. Александровой)
Редактору «Ледиз бук».
Имею честь послать вам для вашего журнала материал, который вы, надеюсь, поймете несколько лучше, чем я. Это перевод, сделанный моим другом Мартином Ван Бюрен Мэвисом (иногда называемым Пророком из Покипси) со странной рукописи, которую я, около года назад, обнаружил в плотно закупоренной бутылке, плававшей в Mare Tenebrarum[5], – море это отлично описано нубийским географом, но в наши дни посещается мало, разве только трансценденталистами и ловцами редкостей.
Преданный вамЭдгар А. По.С борта воздушного шара «Жаворонок»1 апреля 2848Ну-с, дорогой друг, за ваши грехи вы будете наказаны длинным, болтливым письмом. Да, повторяю, за все ваши выходки я намерена покарать вас самым скучным, многословным, бессвязным и бестолковым письмом, какое только мыслимо. К тому же я томлюсь в тесноте на этом мерзком шаре, вместе с сотней-другой canaille[6], отправившихся в увеселительную поездку (странное понятие об увеселениях имеют иные люди!), и, очевидно, не ступлю на terra firma[7] по крайней мере, месяц. Поговорить не с кем. Делать нечего. А когда нечего делать – это самое подходящее время для переписки с друзьями. Видите теперь, отчего я пишу это письмо, – из-за своей ennui[8] и ваших прегрешений.
Итак, достаньте очки и приготовьтесь скучать. Во время этого несносного полета я намерена писать вам ежедневно.
Ах, когда же наконец человеческий ум создаст нечто Новое? Неужели мы осуждены вечно терпеть бесчисленные неудобства воздушного шара? Неужели никто не изобретет более быстрого способа передвижения? По-моему, эта мелкая рысца – сущая пытка. Честное слово, мы делаем не более ста миль в час, с тех пор как отправились! Птицы и те нас обгоняют, во всяком случае некоторые из них. Поверьте, я ничуть не преувеличиваю. Разумеется, наше движение кажется медленнее, чем оно есть в действительности, ибо вокруг нас нет предметов, которые позволили бы судить о нашей скорости, а также потому, что мы летим по ветру. Конечно, когда нам встречается другой шар, мы замечаем собственную скорость, и тогда, надо признать, дело выглядит не столь уж плохо. Хотя я и привыкла к этому способу передвижения, у меня кружится голова всякий раз, когда какой-нибудь шар пролетает в воздушном течении прямо над нами. Он всегда кажется мне гигантской хищной птицей, готовой ринуться на нас и унести в когтях. Один такой пролетел над нами сегодня на восходе солнца, и настолько близко, что его гайдроп задел сетку, на которой подвешена наша корзина, и немало нас напугал. Наш капитан сказал, что, если бы наша оболочка была сделана из дрянного лакированного «шелка», применявшегося пятьсот и тысячу лет назад, мы наверняка получили бы повреждения. Этот шелк, как он мне объяснил, был тканью, изготовленной из внутренностей особого земляного червя. Червя заботливо откармливали тутовыми ягодами – это нечто вроде арбуза, – а когда он был достаточно жирен, его размалывали. Полученная паста в первоначальном виде называлась папирусом, а затем подвергалась дальнейшей обработке, пока не превращалась в «шелк». Как это ни странно, он некогда очень ценился в качестве материи для женской одежды! Из него же обычно делались и оболочки воздушных шаров. Впоследствии, по-видимому, удалось найти лучший материал в семенных коробочках растения, которое в просторечии называлось euphorbium, а тогдашним ботаникам было известно под названием молочая. Этот вид шелка за особую прочность называли шелковым бекингемом и обычно покрывали раствором каучука, кое в чем, видимо, похожего на гуттаперчу, широко применяемую и в наше время. Каучук иногда называли также гуммиластиком или гуммиарабиком; это несомненно был один из многочисленных видов грибов. Надеюсь, вы не станете теперь отрицать, что я в душе археолог.
Кстати, о гайдропах – наш только что сбил человека с борта одного из небольших пароходиков на магнитной тяге, которыми кишит поверхность океана, измещением около шести тысяч тонн и, очевидно, безобразно перегруженного. Этим малым судам следовало бы запретить перевозить больше установленного числа пассажиров. Разумеется, человека не приняли обратно на борт, и он вскоре исчез из виду вместе со своим спасательным кругом. Как я рада, дорогой друг, что мы живем в истинно просвещенный век, когда отдельная личность ничего не значит. Подлинное Человеколюбие заботится только о массе. Кстати о Человеколюбии – известно ли вам, что наш бессмертный Уиггинс не столь же оригинален в своей концепции социальных Условий и т. и., как склонны думать его современники? Пандит уверяет меня, что те же мысли и почти в той же форме были высказаны около тысячи лет назад одним ирландским философом, носившим имя Фурже, потому что он торговал в розницу фуражом. А уж Пандит знает, что говорит; никакой ошибки тут быть не может. Удивительно, как подтверждается ежедневно глубокомысленное замечание индуса Арис Тоттля (цитирую по Пандиту): «Вот и приходится нам сказать, что не однажды и не дважды или несколько раз, но почти до бесконечности одни и те же взгляды имеют хождение среди людей».
2 апреля. Окликнули сегодня магнитный катер, ведающий средней секцией плавучих телеграфных проводов. Я слышала, что, когда Хорзе впервые сконструировал этот тип телеграфа, никто не знал, как проложить провода через океан, а сейчас нам просто непонятно, в чем заключалась трудность! Такова жизнь. Tempora mutantur[9] – извините, что цитирую этруска. Что бы мы делали без аталантического телеграфа? (Согласно Пандиту, древняя форма этого прилагательного была «атлантический».) Мы на несколько минут легли в дрейф, чтобы задать катеру ряд вопросов, и в числе других интересных новостей услышали, что в Африке бушует гражданская война, а чума делает свое благое дело и в Юропе и в Айшии. Подумать только, что раньше, до того как Гуманизм озарил философию своим ярким светом, человечество считало Войну и Чуму бедствиями. В древних храмах даже молились об избавлении людей от этих бед (!). Право, трудно понять, какую выгоду находили в этом наши предки! Неужели они были так слепы, что не понимали, насколько уничтожение какого-нибудь миллиарда отдельных личностей полезно для общества в целом?
3 апреля. Очень интересно взбираться по веревочной лестнице на верхушку шара и обозревать оттуда окружающее. В корзине, как вы знаете, видимость не так хороша – по вертикали мало что можно увидеть. Но там, где я сейчас пишу это письмо, на открытой площадке, устланной роскошными подушками, отлично видно во все стороны. Сейчас я как раз вижу множество воздушных шаров, представляющих весьма оживленное зрелище, а в воздухе стоит гул многих миллионов голосов. Я слышала, что, когда Брин (Пандит утверждает, что правильнее будет: Дрин), считающийся первым аэронавтом, доказывал возможность двигаться в воздухе во всех направлениях и для этого подыматься или опускаться, пока не попадешь в нужное воздушное течение, современники не хотели об этом слышать и считали его за одаренного безумца, а все потому, что тогдашние философы (?) объявили это неосуществимым. Право, я совершенно не постигаю, как такая очевидная вещь могла быть недоступна пониманию древних savants[10]. Впрочем, во все времена самые большие препятствия прогрессу Искусств чинили так называемые люди науки. Конечно, наши ученые далеко не столь нетерпимы, как прежние, – ах, на эту тему я могу сообщить нечто удивительное. Представьте себе, что всего каких-нибудь тысячу лет назад философы освободили людей от странного заблуждения, будто бы постижение Истины возможно лишь двумя путями! Хотите верьте, хотите нет! Оказывается, в очень далекие и темные времена жил турецкий (а возможно индусский) философ по имени Арис Тоттль. Этот человек ввел, и во всяком случае проповедовал, так называемый дедуктивный, или априорный, метод исследования. Он начинал с аксиом, то есть «самоочевидных истин», а от них «логически» шел к результатам. Его лучшими учениками были Невклид и Кэнт. Так вот, Арис Тоттль владел умами вплоть до появления некоего Хогга, прозванного «эттрикский пастух», который предложил совершенно иной метод, названный им a posteriori, или индуктивным. Он полагался исключительно на Ощущения. От фактов, которые он наблюдал, анализировал и классифицировал, – их высокопарно называли instantinae naturae[11] – он шел к общим законам. Одним словом, система Ариса Тоттля основывалась на noumena[12]; система Хогга – на phenomena[13]. Восхищение новой теорией было столь велико, что Арис Тоттль утратил всякое значение; правда, позднее он вернул свои позиции и ему позволили разделить трон Истины со своим более современным соперником. Savants стали считать метод Ариса Тоттля и метод бэконовский единственными путями к познанию. Надо заметить, что слово «бэконовский» было введено в качестве более благозвучного и пристойного эквивалента слова «хогговский».
И уверяю вас, дорогой друг, что я излагаю все это объективно и по самым надежным источникам; понятно, насколько эта явно нелепая концепция задерживала прогресс всякого истинного знания, которое почти всегда развивается интуитивно и скачкообразно. Старая же система сводила научное исследование к продвижению ползком; в течение сотен лет влияние Хогга было столь велико, что, по существу, закрыло путь всякому подлинному мышлению. Никто не решался провозгласить ни одной истины, если был обязан ею только собственному Духу. Пусть даже эта истина была доказуема, все равно тогдашних твердолобых savants интересовал только путь, каким она была достигнута. На результат они не желали и смотреть. «Каким путем? – вопрошали они, – покажите, каким путем». Если оказывалось, что этот путь не подходил ни под Ариса (по-латыни: Овна), ни под Хогга, ученые не шли дальше, а попросту объявляли «теоретика» глупцом и знать не хотели ни его, ни его открытия.
Между тем ползучая система не давала возможности постичь наибольшего числа истин, даже за долгие века, ибо подавление воображения является таким злом, которого не может искупить никакая точность старых методов исследования. Заблуждение этих гурманцев, ранцуссов, аглинчан и амрикканцев (последние, кстати сказать, являются нашими предками) было подобно заблуждению человека, который полагает, что видит предмет тем лучше, чем ближе подносит его к глазам. Они ослепляли себя созерцанием мелких подробностей. Когда они рассуждали по-хогговски, их «факты» отнюдь не всегда были фактами, но это бы еще не имело большого значения, если бы они не утверждали, что факты должны быть таковыми, раз таковыми кажутся. Когда они шли за Овном, их путь получался едва ли не извилистей его рогов, ибо у них никогда не оказывалось аксиомы, которая была бы действительно аксиомой. Надо было быть совершенно слепым, чтобы не видеть этого даже в те времена, ибо уже тогда многие из давно «установленных» аксиом были отвергнуты. Например, «Ex nihilo nihil fit»[14]; «Никто не может действовать там, где его нет»; «Антиподов не существует»; «Из света не может возникнуть тьма» – все эти и десяток других подобных положений, прежде безоговорочно принимавшихся за аксиомы, в то время, о котором я говорю, уже были признаны несостоятельными. До чего же нелепа была упорная вера в «аксиомы» как неколебимые основы Истины! Тщету и призрачность всех их аксиом можно доказать даже цитатами из наиболее серьезных тогдашних логиков. А кто был у них наиболее серьезным логиком? Минутку! Пойду спрошу Пандита и мигом вернусь… Вот! Передо мною книга, написанная почти тысячу лет назад, а недавно переведенная с аглисского – от которого, кстати, произошел, видимо, и амрикканский. Пандит говорит, что это несомненно лучшее из древних сочинений по логике. Автором его (в свое время очень чтимым) был некто Миллер или Милль; сохранились сведения, что у него была лошадь по имени Бентам. Заглянем, однако, в его трактат.
Вот! «Способность или неспособность познать что-либо, – весьма резонно замечает мистер Милль, – ни в коем случае не должна приниматься за критерий неопровержимой истины». Ну, какой нормальный человек нашего времени станет оспаривать подобный трюизм? Приходится лишь удивляться, почему мистер Милль вообще счел нужным указывать на нечто столь очевидное. Пока все хорошо – но перевернем страницу. Что же мы читаем? «Противоречащие один другому факты не могут быть оба верны, то есть не уживаются в природе». Здесь мистер Милль хочет сказать, что, например, дерево должно либо быть деревом, либо нет и не может одновременно быть и деревом и недеревом. Отлично; но я спрашиваю его, отчего? Он отвечает следующим образом, именно следующим образом: «Потому что невозможно постичь, как противоречащие друг другу вещи могут быть обе верны». Но ведь это вовсе не ответ, как сам же он признает; ведь признал же он только что за очевидную истину, что «способность или неспособность познать ни в коем случае не должна приниматься за критерий истины».