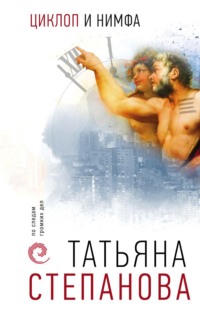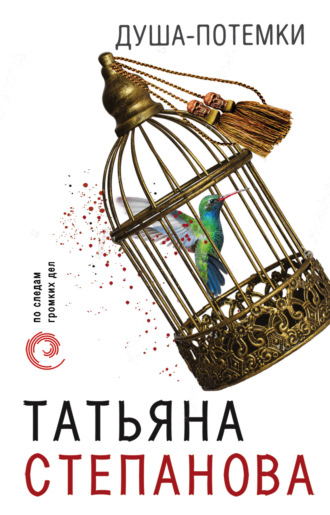
Полная версия
Душа-потемки
Катя сидела и разглядывала свои ногти – что бы ни случилось в вашей жизни, а маникюр идеален. Кто это сказал? Во всяком случае, не душка Сережка Мещерский, который примчался в паспортный стол без звонка и без зова и теперь сидел рядом и капал Кате на мозги.
– Это бесчеловечно. Ты его совсем не жалеешь.
– Я же еду к нему, как он просил.
– Катя… ну пожалуйста… обдумай еще раз все спокойно.
Мещерский встал, потом сел. Катя наблюдала за ним отрешенно – а что, собственно, друг детства… кстати, друг детства мужа Вадима Андреевича Кравченко, именуемого на домашнем жаргоне «Драгоценным В.А.»… что это он так переполошился? Ну да, она, кажется, выбрала один из путей на этой чертовой жизненной развилке – подала документы на развод.
«Драгоценный» выслушал эту новость спокойно… бесстрастно… ну, скажем, без особых эмоций… На том конце телефона где-то в тихом курортном Баден-Бадене. Вот уже несколько месяцев он в качестве начальника личной охраны сопровождал уехавшего на лечение за границу своего работодателя Чугунова – старого и больного, страдавшего всеми недугами в мире. «Я самый больной в мире…»
– Я сделала, как он просил, – беру загранпаспорт, визу в немецком посольстве и еду, мы поговорим, объяснимся, – Катя утешала Мещерского и потому говорила мягко, но тоже бесстрастно… без особых эмоций. Кому нужны ваши эмоции? Ваши переживания в коридоре у двери начальника паспортного стола? – Он… Вадик хочет жить за границей. Хорошо. А я хочу жить здесь. И буду жить здесь. Он говорит, что Чугунов ему сейчас как отец. Возможно, он надеется, что именно ему старик завещает все свое состояние? Тогда все понятно, но при чем тут я?
– Ты его жена, и он тебя любит!
– Он живет в Германии, а до этого они с Чугуновым ездили в Австрию, в Тибет лечиться и куда-то еще… Ты же знаешь, ты сам все эти поездки в своей туристической фирме организовал.
– Чугунов очень плох. Это не отговорка Вадика, это правда.
– Я желаю ему самого крепкого здоровья. Но я тоже… я тоже больше не могу… так, вот так, – Катя выпрямилась. – Он хочет жить там, при Чугунове, и ждать наследства… дождется ли вот только… А я живу здесь. И пора это как-то закончить.
– Забери документы, к черту ваш развод! Я не позволю, – Мещерский встал.
Маленький, раскрасневшийся в пылу спора, он навис над Катей.
– Слышишь, Катя? Я не позволю. Я не для этого столько лет… все эти годы… черт, вот черт…
– Не ори так, тут люди делом заняты.
– Я не для этого столько лет… любил вас обоих… его и тебя… тебя, тебя любил. И ты думаешь, что вот так спокойно можешь наплевать на все? Развестись? Бросить его? Может, ты думаешь, что я на тебе женюсь?
Катя снизу, со своего стула посмотрела на бешеного Мещерского. Боже мой… а мы и не знали, какие вы…
– Так вот, я на тебе не женюсь! – Мещерский рубанул воздух ладонью, словно отсекал что-то от себя. – Мечтал об этом все годы, может, и ждал… да, надеялся, так мечтал… Но после того, как ты с Вадькой поступила, – нет!
– Да как я поступила? Это же он уехал со своим Чугуновым, он ему дороже всех, выходит. Дороже меня.
Катя тоже встала. Пора и тут заканчивать. Хватит истерик, хватит объяснений и уговоров.
– Ты думаешь, что можешь вот так с ним… с нами поступать, потому что красивая? Красивым все позволено, да?
Посреди истерики еще и комплименты выплывают. А народ, кажется, уже прислушиваться начинает – что там за скандал. Вон в конце коридора люди на лестнице – шли мимо, остановились, удивленные. Один сюда смотрит, высокий.
Катя достала из сумки бумажный носовой платок и протянула Мещерскому.
– Вытри слезы и успокойся.
Мещерский отвернулся к стене.
Тогда она пошла по коридору. Начальник паспортного где-то задерживается, вот досада, как не вовремя… К кому бы тут в ОВД Центрального округа зайти из знакомых? Переждать бурю в стакане воды.
Двое мужчин – те самые, что с любопытством наблюдали за скандалом, теперь спускались по лестнице на второй этаж, где располагался отдел вневедомственной охраны. Один – уже в годах, полный и лысый, в отличном сером костюме, отливавшем стальным блеском. Второй – на полшага сзади – высокий, немного сутулый, средних лет, в черном дорогом костюме и белой рубашке, дресс-код, в котором ходят телохранители весьма состоятельных господ. Катя за годы жизни с «Драгоценным В.А.» в этих тонкостях досконально разбиралась.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.