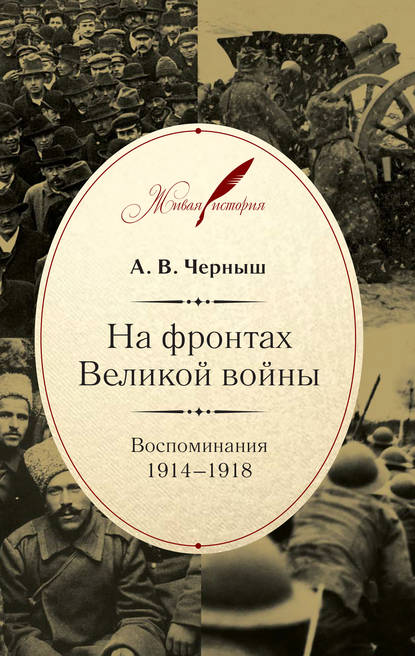Полная версия
Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922
Таким порядком Декларация прошла целиком через горнило комиссии, получила как бы ее полное одобрение и была утверждена. Теперь оставалось только издать ее в виде приказа по военному ведомству. Когда она была представлена на подпись Гучкову, он, естественно, отказался подписывать ее. Представители Совета солдатских и рабочих депутатов, узнав об этом, пришли в страшное волнение. Я сам видел, как один из них, прапорщик Утгоф{45}, даже побледнел от волнения.
– Что же мы скажем в Совете? – в тревоге говорил он. – Ведь вот уже полтора месяца успокаиваем всех, что не сегодня завтра выйдет приказ с Декларацией. Что же будет?
Отложили еще дня на два. Гучков поручил генералу Новицкому собрать комиссию (уже без генерала Поливанова) и добиться существенных уступок в вопросах об отдании чести и свободе политической пропаганды.
Тщетно пытались Новицкий и приглашенный в это же заседание другой помощник военного министра, генерал Филатьев, внести какие-либо хотя бы текстуальные поправки в Декларацию, смягчить если не смысл, то хоть изложение некоторых пунктов. Но и после этого заседания Декларация осталась в том же виде. Гучков решил не подписывать заготовленный приказ и отказался от должности.
В свое время многие ставили Гучкову в упрек, что он покинул свой пост в тяжелую минуту, бросил своих сотоварищей по Временному правительству в то время, когда борьба его с другим, неофициальным, но несравненно более сильным правительством явно складывалась в пользу последнего. Но что же ему оставалось делать? Я думаю, он тогда вполне уже уяснил себе, что взялся не за свое дело, что недостаточно быть дилетантом в военном деле и интересоваться им в качестве постороннего наблюдателя; что для того, чтобы постичь дух армии, мало посвятить всю свою жизнь военной службе, нужно быть солдатом до мозга костей. Понял он, что помочь армии не может, а оставаясь у власти может только навредить ей, продолжая делать те же ошибки, часть которых к тому времени он, я думаю, уже сознавал. Я всегда считал Гучкова искренним патриотом и честным человеком, и он поступил так, как подсказывала ему совесть. Жаль только, что эта мысль не пришла ему раньше.
Подписание Декларации прав солдата, в которой действительно говорилось лишь об одних правах солдата и ни полусловом не упоминалось о его обязанностях, было равносильно окончательному смертельному удару армии, и без того потрясенной до основания Приказами № 1 и № 2.
Могут возразить, что в создавшейся ситуации нельзя было противиться проведению ее в жизнь. Согласен с этим, но не нужно было издавать ее в виде приказа. Представьте себя в положении коменданта осажденной крепости, в которой истощились и продовольственные, и боеприпасы. Падение крепости неизбежно. Коменданту предстоит выбор: или подписать капитуляцию, или предоставить неприятелю овладеть крепостью без всяких условий. Мне кажется, несомненно, предпочтителен последний способ, который избавляет от подписания позорного акта. Так и в данном случае.
Мы не можем заставить солдат отдавать честь, ибо у нас нет реальной силы, на которую мы могли бы опереться, настаивая на выполнении нашего требования. По той же причине мы не можем воспретить митинги в казармах и в окопах. Что же делать, приходится поневоле смотреть сквозь пальцы на происходящее, но не следует узаконивать это официальным актом, каковым является приказ по военному ведомству.
Надо надеяться, что революционный дурман со временем развеется, что можно будет постепенно вновь вводить те правила и установления, которые были самовольно отменены. Тут существование подобного приказа могло бы стать причиной многих неприятностей. Его пришлось бы отменить, а всякая отмена, несомненно, трактовалась бы противниками возрождения армии как реакционная мера, а это, в свою очередь, производило бы неблагоприятное впечатление на массы. Но нет худа без добра, и большевики, в числе многого другого наследства Временного правительства, аннулировали и этот приказ.
Как ни был честолюбив Гучков, как не стремился он к власти, все-таки он, как честный человек, не совершил роковой шаг и предпочел покинуть свой пост и похоронить свои честолюбивые замыслы.
Место Гучкова занял Керенский{46}. Он не колеблясь подписал смертный приговор армии, который в значительной части, быть может, им же и был инспирирован. Это была первая, но очень существенная победа большевиков, которые тогда только начинали поднимать голову. В армию была допущена политическая пропаганда. Временное правительство было лишено оружия самозащиты, и победа крайних левых элементов, несмотря на их сравнительную малочисленность, была неизбежна.
Хотя во время заседаний комиссии [ее члены] и отзывались полупрезрительно о большевиках, когда некоторые указывали на опасность их пацифистской пропаганды в окопах; хотя действительно в то время «большевик» было чуть ли не бранным словом; хотя некоторые из солдат армейских делегаций и убеждали комиссию иметь более доверия к сознательности солдат, которые, дескать, сами разберутся в том, где правда и где ложь, но исторические примеры революций прежних времен указывали на неизбежность перехода власти в руки самых крайних левых партий, а приказ с Декларацией, облегчая пропаганду, ускорял этот переход.
Вновь повторяю, навряд ли мы могли избежать прихода большевиков, как бы мудро ни действовало Временное правительство, но можно было бы оттянуть их торжество до окончания войны, а победное окончание войны, быть может, изменило бы формы господства пролетариата, и России не пришлось бы претерпеть тех бедствий, которые она вынесла и продолжает испытывать и теперь.
С уходом Гучкова в составе военного министерства произошли перемены{47}, которые, к моему великому удовольствию, коснулись и меня. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что одной из причин моего удаления из Петрограда были мои взгляды, высказанные во время прений по поводу Декларации прав солдата.
Искренно говорю, я был несказанно рад моему удалению, так как это избавляло меня от активного участия в похоронах нашей армии и от совместной работы и личных сношений с Керенским, которому я лично глубоко не симпатизировал.
При отчислении меня от должности начальника Главного штаба{48} мне было объявлено, что я отнюдь не имею права покидать военную службу, и было предложено на выбор два вакантных в то время поста: начальника штаба Северо-Западного фронта{49} и дежурного генерала Верховного главнокомандующего; первый пост был освобожден генералом Даниловым{50}, получившим корпус{51}, второй генералом Кондзеровским{52}, моим товарищем по Академии и близким приятелем{53}. Генерал Кондзеровский занимал эту должность с самого начала войны при великом князе Николае Николаевиче, затем при государе императоре. Человек честный, беспристрастный, неподкупный, он пользовался неизменным доверием своих начальников, но строгое следование их законам создало ему немало недоброжелателей среди таких лиц, которые ищут для себя всяких исключений и послаблений. Эти лица немало повредили генералу Кондзеровскому, создав ему репутацию человека сухого и недоброжелательного, чего на самом деле вовсе не было. Это послужило поводом к тому, что Гучков, уступая якобы голосу армии, отчислил генерала Кондзеровского от должности дежурного генерала при Верховном главнокомандующем с назначением членом Военного совета.
Напрашиваться самому на какую-либо должность и предлагать себя кандидатом крайне трудно, поэтому я отказался от выбора и предоставил назначение мое решению высшего начальства, о чем и заявил Керенскому, когда мы, то есть генерал Аверьянов{54}, начальник Генерального штаба, и я представлялись ему по случаю отчисления в его распоряжение.
Представлялись мы в Мариинском дворце[15]. Курьезная подробность: у Керенского правая рука была на перевязи, так как накануне или дня за два перед тем, после какого-то ораторского выступления его в каком-то собрании, ему пришлось испытать столько пролетарских рукопожатий, что рука отказалась ему служить.
В тот же день вечером я получил приглашение к прямому проводу с Могилевым[16], и генерал Марков, который был в то время генерал-квартирмейстером штаба Верховного главнокомандующего{55}, передал мне пожелание генерала Алексеева{56}, чтобы я принял должность дежурного генерала Ставки. Я осведомился у него о желании генерала Деникина{57}, начальника штаба Ставки, которому я вовсе не был известен. Генерал Марков ответил, что генерал Деникин, зная меня по его, Маркова, рекомендации, присоединяется к этому пожеланию.
Генерала Алексеева я знал хорошо и с самой лучшей стороны, за время нашей совместной службы в Главном штабе, еще до Японской войны. Генерал Деникин мне был знаком только понаслышке, но то, что я слышал о нем, говорило только в его пользу: в моем представлении это был прямой, честный воин с ореолом героя.
Таким образом, раздумывать мне было нечего. Через два дня после отчисления от должности начальника Главного штаба я был назначен дежурным генералом Ставки, и 14 мая, после сдачи своей должности моему преемнику, генералу Архангельскому{58}, выехал в Могилев.
Глава III. В Ставке Верховного главнокомандующего
В Могилеве я попал в совершенно другую атмосферу, чем в Петрограде. При Алексееве и его начальнике штаба Деникине настроение было совершенно другим. Правда и тут, как и всюду, были те же самые комитеты, но не было того близкого соседства с Советом рабочих и солдатских депутатов, как в Петрограде, не было этого засилья внутренней политики, больше думалось и говорилось о войне. Дышалось гораздо свободнее. Воинский дух еще не совсем угас. На улицах соблюдалось даже отдание чести, а некоторые войсковые части, как, например, Георгиевский батальон{59}, по стройности, выправке и внутреннему порядку совершенно производили впечатление войсковой части прежнего времени.
Но недолго продолжалось это. Неугодный Совету рабочих и солдатских депутатов и Керенскому, Алексеев вскоре ушел.
Здесь я должен отметить, что Алексеев покинул пост Верховного главнокомандующего вовсе не по своей воле, как некоторые тогда думали. В какой форме было сделано ему предложение об этом, я не знаю, но однажды утром, какого числа не помню, но очень скоро после моего прибытия в Ставку, Алексеев по телефону просил меня прибыть к нему для участия в санитарной комиссии, на предмет освидетельствования его здоровья. Я пришел первым и несколько минут в ожидании врачей оставался с ним с глазу на глаз. Он в очень горьких выражениях сетовал на устранение его от должности, и с его языка сорвалось даже выражение, которое я привожу дословно: «Как ненужного денщика увольняют»{60}.
На место Алексеева был назначен Брусилов{61}, который после переворота вдруг, словно по мановению волшебной палочки, из верноподданного генерала и к тому же генерал-адъютанта, обласканного царем, превратился в ярого приверженца революции. Он потрясал красным знаменем и убеждал всех и вся, что в душе всегда был революционером. Деникин – этот прямой, открытый человек, рыцарь без страха и упрека, не мог оставаться с Брусиловым и тоже покинул Ставку, заняв место ушедшего генерала Гурко.
Последний же был отчислен от должности главнокомандующего армиями Западного фронта вследствие своего заявления о том, что при существующем порядке слагает с себя ответственность в командовании армиями. Керенский усмотрел в этом преступление по службе, даже пытался было предать генерала Гурко военному суду, и, во всяком случае, сместить на низшую должность. Такие строгости применялись к начальствующим лицам и к офицерам вообще, а солдат гладили по головке. Отняли власть, подорвали дисциплину и в то же время не освобождали от ответственности, которая только и зиждилась на этих устоях.
С уходом Алексеева и Деникина в Ставке все изменилось. Уже на первых же шагах своего прибытия в Ставку Брусилов подчеркнул свою приверженность к новым порядкам, созданным революцией. Вот, например, сцена, которую я видел собственными глазами.
Выйдя из вагона по своему прибытию на станцию Могилев, Брусилов, как полагается, принял рапорт от начальника штаба (Деникина), затем подошел к правому флангу почетного караула, поздоровался с музыкантами, откозырнул начальствующим лицам, стоявшим на правом фланге караула, поздоровался с караулом, прошел вдоль его фронта и затем на левом фланге его принял назначенных ординарцев: офицера, унтер-офицера и рядового. Принимая от них рапорты, Брусилов подавал каждому из них руку. Офицеру легко было ответить на рукопожатие, что же касается солдат, у которых обе руки были заняты винтовкой, взятой «на караул», то они пришли в некоторое замешательство, не зная, какую руку освободить, чтобы не выронить винтовки. Нечего и говорить, насколько непривычное зрелище рукопожатия в строю произвело на присутствовавших офицеров тяжелое впечатление.
На следующий день после своего прибытия Брусилов созвал всех офицеров штаба Верховного главнокомандующего и сказал речь, общий смысл которой был тот, что каждый народ с течением времени вырастает из той формы правления, которая годилась ему раньше, и, вырастая, старается сбросить старую одежду и заменить ее новой. Если это ему удается, значит он созрел для этого; если нет, значит, не дорос. Революционное движение 1905–1906 годов показало, что русский народ еще не созрел для политической свободы, успех же нынешней революции, напротив, доказал, что время для новой формы государственного устройства пришло. С этим фактом надобно считаться, ибо в нем выражается воля всего народа. Идти наперекор этому – значит изменять народному делу, и лично он, генерал Брусилов, заявляет, что ни при каких обстоятельствах не отделит себя от русского народа и всегда будет с ним.
Сказано это было отчасти для того, чтобы предупредить о новом курсе личный состав Ставки, который считался вообще монархически настроенным и поэтому контрреволюционным.
На первых же порах смены высшего начальства я почувствовал, что не ко двору пришелся и что самое лучшее, что я могу сделать, так это уйти добровольно, пока меня еще не убрали помимо моего желания. Сам по себе незначительный случай послужил окончательным поводом к моему решению. Привожу этот случай потому, что он был одним из тех эпизодов, которые характеризовали образ действий нового Верховного главнокомандующего, немало способствовавший, по моему мнению, расцвету большевизма в армии.
В Могилеве, как и в других городах, образовался местный Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. В председатели этого совета буквально сам себя навязал некий прапорщик Гольман{62}, молодой человек, несомненно еврейского происхождения, не имевший никакого отношения не только к крестьянам, но вообще к господину Могилеву{63}. Субъект этот вел самую определенную большевистскую пропаганду, с тем только вариантом, что проповедовал не сепаратный мир, о котором в то время с трибуны не всегда было безопасно говорить, так как слушатели могли поколотить, а сепаратную войну против империализма и капитала со всяким, кто не разделяет идей пролетариата, то есть ясно указывая на необходимость разрыва с союзниками. Местные власти в лице губернского комиссара и прокурора Судебной палаты обратили внимание на его деятельность, конечно, главным образом из опасения аграрных беспорядков в губернии, и так как он был военный, то просили штаб Ставки обуздать его.
Это дело попало в мои руки, и я приказал навести справки, что это за личность. Оказалось, что прапорщик Гольман по окончании школы прапорщиков был направлен в какую-то войсковую часть на фронт, но туда не поехал, а, воспользовавшись тем хаосом, который наступил тотчас после переворота, самовольно, как тогда говорилось, «кооптировал» себя для укрепления революции, – явился в Могилев и занялся политикой. Никаких полномочий от Совета рабочих и солдатских депутатов у него не было, так как на троекратный запрос по этому предмету мы от сего почтенного учреждения никакого ответа не получили. Короче говоря, Гольман был обыкновенным дезертиром.
Узнав об этом, я сделал распоряжение арестовать его, но в тот же день мне было доложено, что Верховный главнокомандующий пригласил Гольмана на чашку чая.
Я сначала даже не поверил этому, но затем из уст самого начальника штаба главнокомандующего, генерала Лукомского{64}, узнал, что это так, что генерал Брусилов, ознакомившись с деятельностью прапорщика Гольмана, вовсе не находит ее вредной, а, напротив, даже признает полезною.
– Со своей стороны, – добавил генерал Лукомский, – я, конечно, не согласен с ним (то есть Брусиловым), но знаете, в настоящее время для общей пользы дела необходимы некоторые компромиссы.
Я ему ответил на это, что вполне согласен с ним и готов был бы пойти на какие угодно компромиссы, даже позорные лично для меня, если бы знал наверное, что этим действительно принесу пользу. Если бы кто-нибудь мог указать мне ту границу, до которой я могу идти по пути компромиссов и уступок, принося пользу, ту границу, перейдя которую я не только перестаю приносить пользу, а, напротив, становлюсь в ряды тех, кто разрушает нашу армию, а с нею губит и Россию, тогда другое дело, я смело и спокойно шел бы до этого предела. К сожалению, никто не может указать этой границы, и полное неведение ее заставляет быть особенно осторожным в своих действиях и поступать лишь так, как подсказывает здравый рассудок и совесть, а не умозрительные видения далекого будущего.
Как бы то ни было, но пришлось подчиниться и оставить Гольмана на свободе, а самому поскорее убираться из Ставки. Впоследствии я узнал, что Гольман был все-таки арестован по приказанию Верховного главнокомандующего генерала Корнилова, сменившего Брусилова.
Удалось мне уйти из Ставки благодаря Деникину, который предложил мне должность главного начальника Минского военного округа на театре войны{65}, то есть того округа, где я был начальником штаба в начале войны. Нечего и говорить, с какой радостью я возвращался вновь под начальство этого человека, превосходные качества которого успел оценить за короткое время совместной службы в Ставке.
В ожидании прибытия в Ставку моего преемника{66} я оставался в Могилеве до 20-х чисел июня. За это время в Ставку дважды приезжал военный министр Керенский. Ему устраивались парадные встречи на вокзале. Говорились речи. Это было в то время, когда Керенский объезжал войска, старался своими речами вдохнуть в них воинский пыл, необходимый для задуманного наступления; при этом неизменным приемом его было обращение к солдатам, что «теперь вы, дескать, можете смело и спокойно идти в бой, это не то, что было при царском режиме, теперь вас не предадут, теперь вас уберегут от напрасных потерь, за вашим начальством следит и о вас заботится недремлющее око революционного правительства, и т. п.».
Неужто не понимал этот человек, что, произнося подобные слова, он окончательно убивал в солдатах веру в тех людей, которые должны были вести их в бой: что он этим еще более расширял пропасть между офицерами и солдатами. Воля ваша, я лучшего мнения об умственных способностях Керенского и скорее готов допустить умысел, чем добросовестное заблуждение вследствие глупости.
Помню, как в один из приездов Керенского на вокзале говорились ему приветственные речи председателем Союза офицеров{67}, подполковником Новосильцевым{68}, и от Солдатского союза каким-то солдатом-армянином. Новосильцев после выражения чувств всех офицеров, объединенных искренним желанием служить новой революционной России, между прочим высказал общее пожелание, чтобы Временное правительство проявило волю, чтобы теперь, пока еще не поздно, твердыми мерами поддержало дисциплину в армии и что все благонамеренные и лучшие элементы армии с нетерпением ожидают этого и окажут ему могучую поддержку. Солдат сказал нечто тоже в этом смысле. В ответ на это Керенский заявил, что из своих частых посещений фронта он вынес впечатление, что к суровым мерам прибегать вовсе не нужно, что суровые меры приводят как раз к нежелательным результатам, что единственно в данное время целесообразно – моральное воздействие и плоды его проявляются все более и более.
На чем основывалось утверждение военного министра о действительности морального воздействия, неизвестно, так как до Ставки чуть ли не ежедневно доходили сведения об антидисциплинарных выступлениях и солдатских эксцессах из разных мест. Во всяком случае, подобное заявление военного министра и в то же время министра председателя, то есть главы правительства, в официальной обстановке, в сердце армии, при многочисленной аудитории, произвело свое действие: развал армии при полной безнаказанности всякого рода своеволий пошел гигантскими шагами, и не прошло и месяца, как министру председателю пришлось отказаться от своего морального воздействия и, по требованию генерала Корнилова, установить смертную казнь за целый ряд воинских преступлений{69}.
Глава IV. В ближнем тылу Западного фронта
Пост, который мне предложил Деникин, – главный начальник Минского военного округа на театре войны. Местом моей службы теперь был Смоленск. Я выехал из Могилева 25 июня, заехал на один день в Минск, чтобы представиться Деникину, и 27 июня прибыл в Смоленск.
Как я уже упомянул выше, я с самого начала кампании до апреля 1916 года был начальником штаба этого округа. Главным начальником его при мне и после моего ухода был генерал от кавалерии барон Рауш фон Траубенберг{70}. Благороднейший, честнейший человек, единственным недостатком которого была, быть может, излишняя мягкость к подчиненным. Управляй он округом в обстановке мирного времени, он, несомненно, был бы обожаем всеми поголовно. Но тут, во время войны, когда состав войсковых частей округа беспрестанно менялся, одни части сменяли другие, люди запасных батальонов шли на пополнение боевых частей, а на смену им приходили выздоравливающие или новобранцы, популярности трудно было установиться, и, напротив, этот переменный состав округа представлял как нельзя более благоприятную почву для агитаторов. Этим последние и воспользовались.
В первые же дни революции они организовали беспорядки в запасном саперном батальоне, стоявшем в Смоленске{71}. Барон Рауш в сопровождении начальника штаба округа генерала Морица{72} и начальника дорожного отдела генерала Миллера{73} отправился в батальон, чтобы урезонить бунтовщиков. Как нарочно, все трое генералов носили немецкие фамилии. Этого было достаточно. Им не только не удалось водворить порядок, но если им самим удалось спастись от смерти и отделаться только смещением с должностей и арестом, так только благодаря тому, что в первые дни революции революционные воины еще не вошли во вкус крови и оглядывались на Временное правительство. Никакого наказания за своевольное смещение начальников бунтовщики не понесли, да никто не ожидал этого. Петроград, Москва, Киев и другие пункты с крупными гарнизонами подали похвальный пример этому.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Старшинство было необходимо прежде всего для исчисления выслуги лет в том или ином чине. Следовательно, установление более раннего старшинства давало определенные преимущества, обычно это относилось к тем, кто производился в чин за особые отличия, чаще всего за боевые. В мирное время старшинство обычно соответствовало дате производства. Случай с Минутом также был довольно распространен: когда производился человек, занимающий более высокую должность, чем его чин, но состоящий не в боевых частях. 6 декабря – традиционная дата производства по выслуге лет и для обычного порядка.
2
Десятина равнялась 2400 квадратным саженям и соответствовала современным 1,0925 гектара или 109,25 соток. (Здесь и далее – примеч. К. А. Залесского).
3
То есть в одном участке, а не, как обычно, по отдельным полосам, отделенным друг от друга (чересполосица).
4
В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 1906 г. размещалась Государственная дума.
5
В Российской империи не существовало поста премьер-министра (1-го министра), глава правительства именовался председателем Совета министров.
6
Молодечно – местечко, центр волости Вилейского уезда Виленской губернии. Ныне – районный центр Минской области Республики Беларусь.
7
От своего отца генерал-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко.
8
Доклады, подаваемые на высочайшее имя, то есть непосредственно императору.