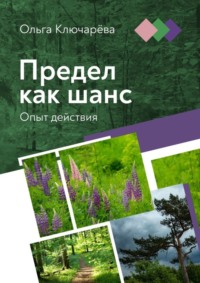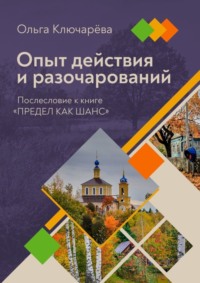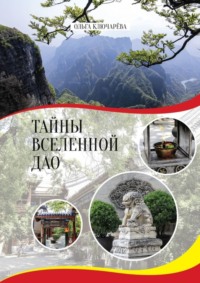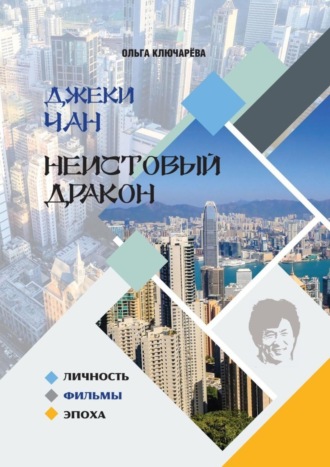
Полная версия
Джеки Чан. Неистовый Дракон: личность, фильмы, эпоха
Возникали и закрывались в Гонконге и другие кинокомпании. Вообще, процесс в разные времена шёл очень активно, сопровождался интересными поворотами, которым стоило бы посвятить отдельную книгу. Каждая из студий и старалась, и сказала своё слово. И «Шао» не были единственными. Более того, в разные периоды, при установке руководителей экономить на всём и вся, в том числе на исполнителях главных ролей и технических сотрудниках; при том, что, несмотря на все попытки закрепиться на Тайване, они потерпели там крах и были вынуждены внедрять кинопроизводство в Гонконге, где консервативные устремления далеко не всегда приветствовались; при том, что время от времени конкуренция возрастала и возникали гораздо более интересные и перспективные студии – могло казаться, что «Шао» не продержатся. Но каждый раз обстоятельства оказывались в их пользу. За исключением, пожалуй, событий начала 70-х годов. Но об этом расскажем позже.
Некоторый консерватизм Шао гонконгскими коллегами, несмотря на обратные утверждения, почти никогда не приветствовался. Были попытки конкуренции, и попытки активные. Так, студия «Дяньмао», унаследовавшая в 1955 году от довольно крупной и интересной компании «Юнхуа» (в своё время резко и демонстративно отмежевавшейся от «левых» настроений, через что удалось сделать такие отличные фильмы как «Дух родины», режиссёр Бу Ваньцан, «Тайная история цинского двора», режиссёр Чжу Шилинь, «Похороны огня», режиссёр Чжан Цзюньсянь и многие другие) студийные павильоны и аппаратуру с новейшим оборудованием, прямо под носом у «Шао» стала работать над, по тем временам, абсолютно новыми жанрами и смотреть по сторонам, а то и за горизонт, подхватывая самые разные ракурсы. «В быт ее киногероев, – говорит в своей книге „Кинематография Тайваня“ С. А. Торопцев, – постепенно вторгался западный образ жизни (кофе, теннис, фехтование как светский досуг), отражая вызревавшую в Гонконге новую культуру, соединяющую Восток с Западом. В фильмах „Дяньмао“ много эмансипарованных женщин, добивающихся, вопреки воле родителей, свободы брака, но внутренняя несгибаемость этих женщин облачалась в традиционную восточную мягкость». «Дяньмао» распалась в 1971 году, не выдержав конкуренции с «Братьями Шао». 1
А компания «Синьхуа» в своё время совершила целый переворот в кинематографе и психологии зрителя, создав жанр под условным названием «Поющие девушки». С тех пор и много лет после гонконгские и тайваньские фильмы почти не обходились без песен. Как нельзя кстати этот жанр пришёлся в своём расцвете на 60-е годы.
Но вообще любопытен тот факт, что тенденции западного кино, в разное время неизбежно проникавшие в гонконгский кинематограф и пытавшиеся придать ему свой оттенок, приживались там всё-таки не так просто. По этой причине прекратила существование «Дяньмао». Были и ещё примеры. Появившаяся и заявившая о себе несколько позже группа молодых режиссеров, среди которых были Ален Фонг, Энн Хуэй, Цуй Харк, имела явно не ограничивающиеся рамками отечественного национального кино амбиции. Но в 80-х годах эта тенденция не получила должного развития. Цензура, контингент публики и ряд других обстоятельств привели к тому, что кинопроизводство Гонконга опять замкнулось в себе. Именно в период 80-х получил возможность наиболее ярко проявить себя Джеки Чан.
Ныне кино Гонконга продолжает удивлять зрителей всех континентов разнообразием жанров, стилистических мотивов и имён. Оно удивительным образом сочетает в себе традиционные национальные особенности с сегодняшними требованиями, как в техническом, так и в духовном плане. Имена Чэня Кайгэ и Чжана Имоу знают во всем мире, тогда как оба режиссера не отступают в своих фильмах от проблем, связанных исключительно с их родным континентом. Одновременно существует целый ряд имён самобытных режиссёров, всё-таки, путём долгой борьбы, зарекомендовавших себя как «западники», и среди них – Цуй Харк, Ринго Лам и, конечно, Джон Ву.
Наиболее заметной и, на мой взгляд, до конца не исследованной фигурой из числа тех, кто, будучи связанным происхождением и местом работы с гонконгским кино, одновременно не связывает себя навечно ни с западом, ни с востоком, является сегодня Вонг Карвай. И он успешно осуществляет свои идеи и замыслы как творческого, так и практического свойства. Об этом говорит признание и премии как азиатских киноакадемий, так и европейских.
Уровень мастерства, стиль, роль актёра
в кинематографе
Тоже тема, требующая отдельного разговора, но необходимо её хотя бы коснуться. Поскольку мы говорим о преемственности поколений и о том, что и Гонконг, по большому счёту, несмотря на ставку на модернизацию, никогда не порывал с традицией, в том числе, в искусстве в целом и традицией исполнительского искусства – в частности, и, более того, некоторые направления, благодаря отсутствию политики уничтожения всего старого и отжившего, какая долгие годы была распространена в материковом Китае, сумел сохранить в искомом их качестве, – всё вместе, все эти обстоятельства и формы, являют нам любопытную картину, сложившуюся в области актёрского искусства в кино Гонконга. Хотя, прочитав эти несколько абзацев, читатель, и особенно искушённый любитель этого кино, боюсь, будет несколько разочарован.
А дело в том, что актёр в гонконгском кино, в силу внешних обстоятельств, на протяжении многих лет и даже десятков лет, был птицей полёта отнюдь невысокого. Но всё зависит от того, с какой точки зрения рассматривать явление. В данном случае мы должны плавно перейти к роли актёра, месту и значению его мастерства в Китайской опере – одном из самых любопытных жанров в искусстве и творческом наследии Китая. Тогда многое станет ясно.
Не нужно долго останавливаться на том, что актёр в китайском народном искусстве (а Китайская опера – народное искусство, и ценность его заключается, прежде всего, в этом!) не мог, не может по сей день и, самое главное, абсолютно не должен обладать набором тех качеств мастерства, которые присущи артисту условно «западному», являются для него обязательными исходя из западных традиций и традиций актёрской школы. Начать хотя бы с того, что «школы» – в том понимании, которое присуще нам с вами, тоже «западным» людям – в Китае (если, конечно, речь идёт о школе в традиционных искусствах) не существует. Актёрское мастерство в исполнительских жанрах в Китае – это не критерии возможностей артиста, который безупречно мог бы владеть психологическим направлением или был бы искусен в театре «отстранения». Актёр Китайской оперы – актёр «театра представления». Да и это можно утверждать лишь отчасти – ведь мы, волей-неволей, снова прибегаем к терминологии западных теоретиков, стараясь наиболее точно определить характер существования актёра в условиях китайского традиционного спектакля. Синтез: движение-пение-стиль-характер в самых схематичных и максимально условных его чертах. Вот, на наш взгляд, как можно было бы наиболее точно и ёмко передать заложенное традицией требование к актёру Китайской оперы. И даже если современных китайский артист сегодня напрочь отвергает утверждение, что и он – особым и загадочным образом – принадлежит этой традиции, – не верьте! Он лукавит. Повторяем, ничто полностью и окончательно никуда не исчезает.
Так вот, китайские актёры, в особенности те из них, что были первыми исполнителями в фильмах, создававшихся в Гонконге, абсолютно естественным образом брали многие свои приёмы из того собственного сундучка с богатствами, который, в целом, и является искусством Китайской оперы. Традиции эти продержались довольно долгое время. И даже если артист не был уже напрямую связан с китайским оперным искусством, он всё же должен был следовать сложившимся правилам. Это ясно видно на примерах.
Мы не можем оценить игру Май Лан-Вая в силу причин технического толка, но понятно, что это был исполнитель, перенесший основные каноны традиционной Китайской и Кантонской опер в кино. Гораздо полнее можно представить, что же на самом деле представлял собой в условиях кинематографа артист оперы, если посмотреть несколько фильмов с участием отца Брюса Ли – . Его работы, к счастью, сохранились на плёнке. И мы наблюдаем на экране актёра, у которого всё отлично, но абсолютно всё при этом заготовлено заранее. Тот же недостаток был как у актёра и у его знаменитого сына: Брюс не умел по-настоящему жить в предлагаемых ситуациях, в условных сюжетах и сценах, погружаться в них, ибо отец, как актёр, которому не была знакома психологическая составляющая в актёрском искусстве, не мог и не смог бы, даже если бы захотел, передать и пояснить ему, что же это означает. Те поверхностность, условность, представление и изображение ситуации, но не жизнь внутри неё – и есть как раз доминирующие черты, присущие именно оперным музыкальным артистам, артистам жанра сугубо канонического. Ли Хой Чуэня
, профессиональная актриса Китайской оперы, также вошла в золотой состав артистов, доказавших состоятельность жанра в качестве основы для нового искусства кинематографа. Она блестяще исполняла роли девушек и юношей (либо, как вариант – юношей, в которых переодеваются девушки), была очень яркой индивидуальностью и обладала уникальным в своём жанре голосом. Поскольку её направление – в значительной степени харктерное, травестийное, – она смогла ярко продемонстрировать себя в кинематографе, запомнившись зрителям в картине, которая вышла далеко за пределы своей страны. Это фильм года, снятый режиссёром Ли Ханьсянем на Студии Shaw Brothers. Прекрасно выдержанный c художественной точки зрения, новаторский в таких своих составляющих как операторская работа, музыкальное сопровождение, декорационное оформление, костюмы и т. д., фильм, прежде всего, конечно, ценен работами актёрскими. Они содержательны и одновременно, как, пожалуй, в подобной степени до того ни один другой фильм, погружают в атмосферу сказочности, образности, чистого музыкального начала, которые присущи традиционной Китайской опере. Линь По а «Лян Шаньбо и Чжу Интаи» 1963
Безусловно, сводить к влиянию одного только китайского оперного искусства буквально всё, что происходило в кино и, в частности, в актёрском искусстве Гонконга в XX веке, нельзя. Если сравнивать процессы, происходившие в Гонконге, в материковом Китае, а также, допустим, на Тайване (где складывались свои пути развития современного искусства, но сопровождались они проблемами политического и территориального порядка), то Гонконг оказался на долгие годы в наиболее выгодном и свободном положении, что обеспечило также наибольшую свободу для заимствования культурных контекстов, скажем, из Европы или США. На ниве кинематографа возникли художники, активно использующие таковые контексты. С нашей точки зрения, наиболее наглядно это проявлялось в творчестве так и оставшейся навсегда юной , добровольно ушедшей из жизни в возрасте 29 лет в 1964 году. В особенности это характерно для последних лет её деятельности, по возвращении из краткосрочной поездки в США, где она проходила языковую и творческую стажировку. В 1962 году на студии Shaw Brothers вышел фильм где она до чрезвычайности напоминает нам многих наших, советских исполнительниц того времени, буквально, кажется, копируя стиль их манеры (хотя, конечно, она не знала и не могла их знать, просто тенденции времени обуславливали такое поразительное сходство). Но Линь Дай являлась и блестящей исполнительницей традиционной оперы (мы можем видеть это в картине, снятой тогда ещё на Shaw&Sons, в 1958 году). Линь Дай «Бесконечная любовь», «Даочань»
Из Кантонской оперы пришёл в кинематограф и легендарный артист – бессменный на протяжении многих лет исполнитель роли легендарного же бойца и врача Вонга Фей-Хуна. Актёр прожил долгую и насыщенную событиями жизнь. И именно его имя связывается со становлением особого киножанра – фильмов . Стоит пристальнее вглядеться в его путь ещё и потому, что, заступив на пост бессменного исполнителя роли Вонга Фей-Хуна, он одновременно начал в кино фактически новую эпоху. Этот особый жанровый путь продолжается до сих пор. Фильм с элементами боевого искусства хунгар, автором которого считается Вонг Фей-Хун, приходит на экраны в году. Вероятно, и сам артист не ожидал такого грандиозного успеха, а также и того, что вплоть до 70-х будет исполнять эту роль. Что же мы можем сказать о его актёрских качествах? Тот самый случай, когда для своего времени артист, вероятно, идеален, однако сегодня, при просмотре тех картин, возникает чувство неловкости. Кван Так-Хинг демонстрирует подключённость к происходящему настолько поверхностно, а его боевые сцены настолько плохо и беспомощно выстроены, что просто диву даёшься. Всё медленно, все соперники подолгу ждут, когда же главный герой нанесёт удар, чтобы отлететь на пару метров в сторону, чего тот удар совершенно не оправдывает. Однако такие мастера жанра как тогда ещё очень молодые и , когда дело доходит до поединков с ними, спасают положение. И здесь уже можно угадать кое-что из будущих кинокартин , где партнёром Шек Кина выступит , и , в котором с Юань Сяотянем будет работать Джеки Чан. В том и в другом случае со старшими будут работать молодые коллеги, и в том и в другом случае мы увидим, насколько сильно стремление дать принципиально новое качество старому доброму жанру. Кван Так-Хинг «История Вонга Фей-Хуна» 1949 Шек Кин Юань Сяотянь «Выход Дракона» Брюс Ли «Пьяный мастер» кунг-фу
Просматривая сегодня картины с Кван Так-Хингом, мы без труда можем заметить элементы, которые спустя много лет войдут и в серию джекичановских фильмов . Перешли туда в своём неизменном виде танцы драконов. Но драконы не просто танцуют – они соревнуются между собой за право первым сорвать условный цветок. Один из них устремляется вверх, преодолевает препятствия, другой отстаёт. Однако лидер в последний момент падает с высоты – соперник подточил ножку стула, на который должен был подняться дракон. Сцены с драконами занимают солидную часть экранного времени в картинах о Вонге Фей-Хуне 50-х годов. Создатели в году отдали дань традиции, и отличная зрелищная сцена с подобным танцем и соревнованиями школ в этом танце открывает фильм. кунг-фу «Молодого мастера» 1980
Обречённый на борьбу за выживание
Он родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Чан Кон Сан, Чэнь Ганшен – разные варианты произношения, связанные с диалектальными особенностями китайского языка. В Гонконге его зовут Син Лун, в материковом Китае это звучит по-другому: Чэн Лун. Но всё это, как выяснилось сравнительно недавно, не его имена. Фонг (или «Фан»). Фамилия, которая, как он узнал уже в зрелом возрасте, была его собственной, родовой.
Он сидит рядом со своим отцом. Отец рассказывает, что видел, когда его схватили японцы. Как те устраивали показательные казни, рубили головы таким же, как он. Подробности, о которых говорит пожилой человек, ужасны. Сын, как видно, уже знает эту историю, и теперь ему лишь важно, чтобы отец не перестал говорить. Не передумал бы, как много раз это делал. Сыну нужно, чтобы документальное кино об истории его семьи получилось хорошим, насколько это возможно, при таких непростых обстоятельствах, увлекательным. Но когда мы слышим в подробностях, что пришлось пережить отцу Чана и его жене, прежде чем они оказались в Гонконге и соединили свои жизни и судьбы, становится ясно, почему всё откладывалось в течение продолжительного времени. Вспоминать всё это тяжело. Да и воскрешать воспоминания о совсем другой жизни, которая оставлена на другом континенте, тоже, как долгое время казалось отцу и матери, было не нужно.
Документальная лента несентиментальна, несмотря на то, что вы до просмотра ожидаете именно этого. Слёз при воссоединении, слёз во время воспоминаний. Ни слёз, ни даже самого воссоединения не будет. Отец Чана поедет в Китай один, увидится со своими сыновьями и внуками. И последний кадр – где он сидит в их окружении (а получается, что родни у него на континенте действительно очень много!) будет выглядеть странно и вызывать противоречивые чувства. Мать, будучи уже не в силах передвигаться, останется дома. Сын ухаживает за ней, кормит, разговаривает и целует. С отцом он дружит, что прочитывается ясно. Но встречаться ни он со своими родными, ни они с ним смысла не видят. Что правильно и абсолютно честно. Тем картина и подкупает. Встречи нет, но вокруг этой «невстречи» всё строится. И, обрастая подробностями, возникает кино. Вот он, излюбленный приём Джеки Чана: о себе – абсолютно всё, и так, словно вы и сами уже сидите рядом с ним и его отцом и слушаете удивительные рассказы из прошлого. Словно вы и сами, присоединившись к ним, идёте вдоль берега или ловите рыбу вместе с ними. На том рассказ об этой ленте завершим, предоставив возможность читателю самому посмотреть её. «Джеки Чан и его пропавшая семья» (2003)
Кто-то верит в силы судьбы, в предопределённость пути и каждого шага человека. Кто-то отвергает эти вещи, считая предрассудком. В отношении Син Луна сложно однозначно определиться. Человек он, кажется, несуеверный и убеждён (и постоянно транслирует это), что успех приходит только при том условии, что ты прилагаешь к достижению цели максимум собственных сил. Силы судьбы же не имеют почти никакого значения. Однако сегодня с уверенностью можно сказать, что мальчик Чан Кон Сан точно был обречён, по крайней мере, на одну вещь: постоянное, непрерывное движение – движение, заканчивающееся адской болью, а временами – сильнейшими травмами, движение, приносящее столько же радости и упоения, сколько и страданий. Но вопреки этому, как бы в предчувствии своей насыщенной движением жизни, ребенок находился в утробе матери не девять, а двенадцать месяцев. Ли Ли Чан была вынуждена обратиться к врачу, и на свет появился младенец весом приблизительно 5 кг. 400 гр.
Родители Чана, Чарльз Чан и Ли Ли Чан, пережили множество разных событий, ещё не будучи знакомы друг с другом. Джеки Чан сравнительно недавно согласился поделиться некоторыми подробностями, которыми, в свою очередь, решился, наконец, поделиться с ним его отец – тоже уже на склоне своих лет. Теперь вроде бы все точки расставлены, но тема по-прежнему не совсем удобна. У каждого из его родителей была своя семья, но о существовании родственников Чан узнал относительно недавно.
Чарльз и Ли Ли познакомились на материке и вместе эмигрировали в Гонконг, спасаясь от смертоносного урагана, который принёс в Китай новый режим. Трудно сказать, как сложилась бы их жизнь, останься они там. Ясно только, что, появись Джеки Чан на свет в этих условиях, мы, скорее всего, никогда бы о нём не узнали.
Нельзя сказать, что Гонконг сразу дал Чарльзу и Ли Ли всё, но, по крайней мере, они не опасались за свою жизнь и имели достаточно стабильный источник средств к существованию: поддерживали хозяйство семьи иностранного посла, проживающей в особняке на Виктория Пик. Чарльз был поваром, Ли Ли – экономкой.
Сегодня Виктория Пик – территория туристов. Трамвай, двигающийся по специальной монорельсовой дороге вверх, поднимет вас на высоту в несколько сотен метров за считанные минуты (хотя, между делом, совет: до Пика Виктории можно отлично добраться на одном из городских автобусов – по крайней мере, в одну сторону, а назад уже спуститься на трамвае). Вы попадаете в иной, по сравнению с Гонконгом, мир. И он всё ещё сохраняет прежние свои черты – в особенности на территориях и дорожках, удалённых от основного туристического центра. Но если вы хотите всё осмотреть и вкусить все радости, которые вам, любознательному путешественнику, приготовили гонконгцы, отправляйтесь прямиком внутрь, в строение, одновременно служащее трамвайным «вокзалом» в несколько этажей, и вы сразу окажетесь во власти ожидающих очередную группу гостей продавцов сувениров, мороженого, всякой иной всячины и фотографов. Тут можно провести весь день и избавиться от солидной суммы. Вам изготовят именную печать, предложат зайти в музей восковых фигур, где можно сфотографироваться с джекичановской довольно удачной копией, а также осмотреть, собственно, музей. Памятные игрушки (скажем, из поездки 2003 года мной был привезён небольшой медведь в фирменной красной курточке водителя трамвая), при желании – обед в ресторане или чашка кофе, посещение магазинов и обзорной площадки, с которой можно увидеть Гонконг как на ладони… Но если вы хотите ощутить истинную прелесть этого места, спускайтесь с Пика не на трамвае, а пешком. Дистанция приличная – несколько километров вниз по склону, под небольшим углом. Но субтропический лес, окружающий вас со всех сторон – это и есть настоящий первозданный облик острова и всего юга Китая. Здесь можно увидеть и услышать самых разных птиц, полюбоваться диковинной растительностью и деревьями, корни которых из-за постоянного сопротивления ветрам и дождям показались наружу, причудливо переплетаясь. Иногда на пути вам будут встречаться кошки – очень большие по размерам и почти дикие. И везде – буйство самых различных оттенков зелени, её запах, который в условиях тёплого и влажного климата становится особенно насыщенным и сильным. Вот атмосфера, в которой рос маленький Чан Кон Сан, вот где он играл и наслаждался жизнью.
Втроём, вместе с только что родившимся сыном, семья проживала в небольшой комнате, где стояла двухъярусная кровать. Внизу помещался маленький Кон Сан, наверху – родители. Как только Кон Сан начал самостоятельно передвигаться, отец, поднимая его в пять часов утра, заставлял тренироваться до седьмого пота, так что с этого момента судьба взяла власть в свои руки.
«Я был несносным мальчишкой…» – говорит Чан. Ощущение полноты жизни – одно из определяющих качеств его натуры – проявилось в детстве с необычайной силой. К учёбе он испытывал отвращение, дрался и тратил деньги, которые давали на проезд из школы, на еду. Обычное детство. Обычное стремление ребёнка получить от мира всё, что этот мир предлагает. Родители серьёзно беспокоились по поводу дальнейших событий в жизни озорного и неуправляемого ребёнка, и, посовещавшись с друзьями, отец пришел к выводу, что мальчишку нужно отдать в такое место, где учеба сочеталась бы со строгой дисциплиной. Академия Китайской музыкальной драмы была в этом смысле идеальным местом.
Нимало не беспокоясь о том, что ждёт его в будущем, на какое безрадостное существование обрекает его отец, отдавая в Академию, маленький Чан с восторгом услышал, что остаётся здесь на десять лет. Его привлекало, прежде всего, то обстоятельство, что здесь не нужно учить уроков, а можно весь день двигаться и бегать, находя применение своей детской энергии. Так и было. Учитель строго придерживался своей проверенной тактики: вначале дать ребёнку полную свободу, затем, поймав на какой-нибудь незначительной провинности, как следует наказать и уж потом никогда не давать спуску. Наказание чаще всего заключалось в хорошей порции ударов тростью. И весь ужас состоял в том, что с момента первого наказания и до конца пребывания в Академии этот жестокий режим сохранялся. Не говоря уже о том, какой стресс испытывал ребёнок при первом наказании. Ю Джим Юэнь
По словам Чана, в то время, когда он попал в Академию, с родителями учеников подписывался контракт, один из пунктов которого гласил: учитель вправе наказывать ученика, даже если последствием этого наказания может оказаться смерть. Сегодня мы не имеем возможности точно проверить, действительно ли существовал такой пункт. Если же судить по уровню подготовки будущих актёров Китайской драмы, то это вполне может быть правдой. Видеозаписи спектаклей 60-70-х годов, а также фильмы жанра и и картины Джеки Чана, где большинство исполнителей – ученики той самой Академии, убедительнее всяких слов свидетельствуют о плодах трудов учителей того времени. Сейчас приведу только один пример, а в дальнейшем мы ещё не раз к этому вернёмся. В картине «Проект А, часть 1» есть сцена в пивной, которая заканчивается дракой. Чтобы понять истинное положение вещей в плане техники, необходимо смотреть этот бой в замедленном темпе. Только тогда мы поймём, что в построении сцен, подобных этой, счёт идёт не на секунды, а каждая секунда дробится на доли, и уже эти самые доли являются единицами измерения, поскольку за секунду наносится не один, а несколько ударов и делается несколько движений. Новичок не различит даже деталей такого поединка, не говоря уже о неспособности это повторить. Академия же Китайской драмы, используя хорошую природную реакцию и физическую выносливость ученика, умножала его способности в несколько раз. кунг-фу уся
Сегодня Джеки Чан говорит, что, не будь в его жизни этого воспитания – режима Учителя Ю Джим Юэня, – он никогда не стал бы Джеки Чаном. Более того, – утверждает он, – и сейчас существуют школы, подобные той, в которой воспитывался он, но уже нет в контракте пункта о возможности смертельного исхода как последствия наказания, ученики не изолированы от семей, и нет уже того строжайшего режима, по которому жили ребята Академии Ю Джим Юэня. И хотя традиция Китайской оперы как жанра продолжает жить, её представления выглядят иначе.