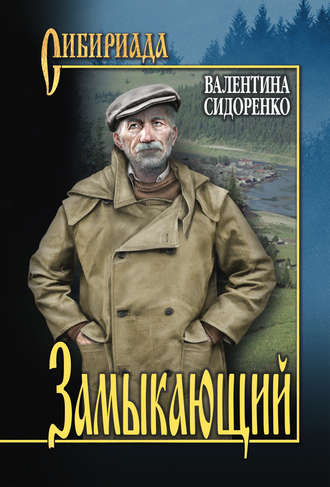
Полная версия
Замыкающий (сборник)
«Так и не заперлась», – сердито подумал Петр Матвеич. Он пробрался к калитке и заложил ее изнутри. Потом вышел в огород. Потрогал грядки. Они были мокрыми. Перемахнул через огород, как молодой, и пошел по пустынному переулку. Шел с размаху, не разбирая дороги, и потом почуял горячее на щеках. Пальцами нащупал слезы и изумился им. Потому что он раньше не плакал. Даже на судах Юрки не плакал. «Вот ведь как баба нутро рвет, – думал он, утирая слезы рукавом, и ему было легче от слез. – Видала бы она меня сейчас. Все ей казалось, что не любил ее. А счас и свет не мил без нее становится, и жизнь не нужна».
Надежда ждала его, налила ему столовского супа. Видимо, он не сумел скрыть своего отвращения к нему.
– Чего?! – недовольно заметила она. – Он свежий. Это не объедки. Из котла…
– Чай есть? – спросил он, насильно выхлебав несколько ложек этого супа.
– У Нюрки своей, поди, и помои хлебал, – не выдержала Надежда и, резко взяв чашку, вылила ее в ведро.
«Дура, – спокойно подумал Петр Матвеич. – Сравнила себя с Нюркой. Нешто она подала бы хлебова казенного?»
– Нету чая. Печка дымит, а газ у меня давно вышел…
Он глянул на печь, заметил, как она ободрана, давно не белена, вздохнул и ушел в горницу.
– Чего будем делать-то? – спросил он ее, садясь на диван.
– А чего делать? Жить будем, и все, – откликнулась она, вытирая тряпкой клеенку на столе.
«Разве это жизнь? – подумал он. – Такая жизнь хуже смерти…»
Ночью он встал, подошел к окну. Стояла теплая летняя ночь. Звенел коростель, глубоко лучились звезды. Он думал о Нюрахе. Она не выходила из всего его существа ни на минуту, только ночами нападала тоска по ней, сильная, как боль, и мучила его. Он думал, что в армии он тосковал по деревне своей и родительскому дому, о родине своей. Сейчас он на родине и тоскует только по своей бабе. Значит, дело в бабе. Все к ней и сводится. К ребру своему. Отец его, Матвей, любил повторять: от нашего ребра нам не видать добра…
– Ты чего, Петр Матвеич?! – спросила из своей боковушки Надежда.
Он подивился тому, что она не спит.
– Да так, – закашлялся он. – Курить хочу… Куды-то папиросы подевались.
– На окошке они…
Он громко зашарил по подоконнику. И тут ему пришла в голову мысль, что она опасается его приставаний и потому не спит.
– Ты спи, – сказал он ей. – И не бойся ничего. Ничего не бойся. Я старый…
– Вот уж чего я давно не боюсь, – фыркнула она из темноты. – Я, может, другого боюсь… что ты, правда, старый… Или притворяешься…
– Спи спокойно, – буркнул он, громко укладываясь на полу, – а то проспишь завтра. Кавалеры твои оголодают…
Спал он плохо и с утра на работе в гараже едва двигался.
– Ишь как меды-то соки сосут, – все вертелся подле него Витька Перевертыш. – Рвет поди жилы молодуха?!
– Ну ты, иди отсюда, сосунок, – отгонял от товарища-пересмешника Василий. – Вот женишься, тады сам поймешь, кто чего там рвет…
Василий так ничего и не спрашивал у Петра Матвеича и вообще не заговаривал с ним о новом его адресе. Перекусывали они обычно вдвоем на задворках гаража и молчали, без слов понимая друг друга.
После работы он взял ведро, пошел в свой карьер копать глину. Нашел песку и долго возился во дворе, замешивая раствор.
– Ну, грязи-то приволок! – проворчала Надежда.
Он не ответил, но глянул на нее сурово и укоризненно. Надежда поджала губы. Петр Матвеич вбил в дыры кирпича, всю печь тщательно обмазал.
– Завтра побели! – сказал ей внушительно.
На ужин она подала ему картошки в мундирах. Ели с первыми огурчиками. Он хвалил изо всех сил.
– Домашнее-то и хлеб с солью вкуснее, – говорил он ей, а она, раскрасневшаяся, как-то странно и задумчиво взглянула на него.
На другой и на третий день печь так и стояла черной. Вздохнув, Петр Матвеич пошел рыться в басмановских сараях. Известку он нашел в бумажном мешке. Старик Басманов знал и умел многое и был запаслив. Известка не пошла в распыл и разварилась бело и круто. Приготовил из нее «сметану» раствора, внес ведро в дом. Надежда капризно сморщилась.
– Эх, Надежда, Надежда, – приговаривал Петр Матвеич, – печка в доме, как сердце. Главное. Сколь она работать будет, столь и жизни в доме… По печи хозяйку узнают. Как печь обухожена, такая и хозяйка. А что это без печи жить?! Али с такой ободранной печью? Как, понимаешь, голый зад… Хозяйка, едрена вошь…
– Ну, ладно, учить-то.
– Поучиться не грех. Смотри, я вот обмазал ее известочкой. Подсохнет, сама уж побели. А то тебя бабы просмеют, если мне придется белить.
– Чихала я на баб ваших.
– Почихаешь да надоест. Доброе-то имя оно дорого стоит.
– Прям для баб наших подорожает…
Однако на другой день Надежда побелила печь, и та засияла, что невеста на свадьбе.
– Ну вот, – примирительно сказал он. – Самой приятно. – Учись, а то мужик-то, он, знаешь, он домовитых любит. Замуж-то все одно пойдешь.
– А я замужем, – рубанула она.
– Дура-то… – усмехнулся Петр Матвеич. – Кто же так замуж ходит!
Надежда затопила печь и сварила летнего молодого борща. Петр Матвеич впервые за лето от души поел. Аж вспотел от удовольствия. Доедая хлеб, Петр Матвеич думал, что таких, как Надежда, он много видел. Раньше их меньше было, а сейчас они, как после заморозков, эти бабенки, неплодные, по-бабьи неразвитые. Что-то из души их не светит, не тянет, не греет мужика. Они же чем старше, тем озлобленнее. Сверкают, как льдинки. До первого сугрева…
– Прям вы у баб только на печь и глядите, – ядовито вспомнила их разговор Надежда.
– Сразу-то оно, может, и не на печь. А после того мужик – он все заметит, – вздохнул Петр Матвеич.
Вечером пришел Витек и сразу увидел печь.
– Ну ты даешь, Надька. Я и не думал, что ты умеешь.
Надежда дернулась, отчего-то обиделась и спряталась в своей боковушке.
– Слышь, Матвеич, – тихо сказал Витек, – Борю Ельцина я нашел… Вернее, Райка привела…
– Ну, брат, ну, я поздравляю.
– И Райка ко мне пришла…
– Так вы что, сошлись с Зинкой? – крикнула Надежда.
– Ага, сошлись!
– Во дурак. Так для тебя козел главнее, – рассердилась сестра, – что ты о нем в первую голову сообщаешь.
– И козел тоже, – ответил брат и пошел к двери.
– Ждите в гости. Скоро придем! – крикнула ему уже через окно Надежда.
«Ну нет, – подумал Петр Матвеич, – меня там только не хватает. Хватит, и так загостился…»
* * *Однако уже вершился июль, знойный и белый, а ничего не менялось в их жизни. В селе вовсю шли сенокосы. Траву косили везде, где она поднялась. Сено сохло на пряслах и крышах, и в огородах и везде, где не гуляло красно солнышко. Дождей, слава богу, выпало в этот сенокос немного, но грозы пугали сельчан. Петр Матвеич все мотался между гаражом и Надеждиным двором в привычном уже полусне, все больше теряя надежду на то, что этот сон когда-нибудь развеется. Он все же снес старые полусгнившие сараи и стайки во дворе у Надежды и вскопал под ними землю.
– Урожай у тебя будет, Надежда, на тот год. Вишь, как земля скотом удобрена. Будет чем деда Петю вспомнить.
– Я собираюсь отбивать этого «деда», – полушутя-полусерьезно ответила она, – хватит, нажилась одна. Мне все одно теперь – либо за разведенного, либо в отбивочку. Пьянки мне не надо… А ты, Петр Матвеич, мне как раз подходишь…
«Кишка тонка у тебя меня отбивать, – спокойно подумал Петр Матвеич, – нешто ты с Нюркой сравнишься?»
А ей сказал:
– Пьяный, говорят, проспится да к делу сгодится. Добрая баба и пьяницу отмоет да к делу пристроит.
– Хватит на меня одного братца…
Нюраха словно бы даже успокоилась. Окна у них больше никто не бил, и в гости почти никто не ходил. Яшка Клещ – и тот переставал интересоваться их жизнью, и Петру Матвеичу стало недоставать пристрастного этого внимания. Только и оставались бесконечные мысли и воспоминания о Нюрахе. Лежа на полу на кухне, он смотрел в потолок и все вспоминал, словно кино смотрел про свою прошедшую жизнь. Вспоминались первые годы их совместной жизни, молодой любви. Ее ревность – как она раздражала его! До самой старости к Клавдийке ревновала! И только теперь, лежа на полу в чужом доме уже месяцами, не слыша ее голоса, он понял, что ревность эта происходила из ее страха потерять его. Что всю жизнь она жила только им и все ее главные заботы вокруг семьи, центром которой она ставила его. Какая простая мысль и как трудно было с нею смириться! Бабы – они ведь совсем другие. У тебя – одно, у них – другое! Думаешь – характер скверный, а это их любовь такая… Навыдумывают, наворочают и бедному мужику на голову все свалят. А у того все просто. У него этих извилин нету… Есть, пить, работать, любить… Пришла пора – женился, жил, как все, к старости только с нею и о другом не мыслил. Чего было ревновать?! – Так он подолгу вертелся с боку на бок, засыпая только перед рассветом и каждую минуточку думая о Нюрахе. А когда встретил ее после работы на остановке, то не сразу узнал и оторопел от неожиданности. Она сидела на лавочке и поднялась ему навстречу.
– Че ты с собой сделала?! Лохудра! – сразу сказал он ей, так будто они два часа не виделись и она заскочила по дороге в парикмахерскую.
– Химку, Петя, – смирно ответила она, шевеля буйной, седеющей уже головой.
– Ишь вздумала! Завела, что ль, кого?
– Может, и завела. Не одному тебе по сучкам бегать…
Он присел рядом с нею. Сердце колотилось и досадовало. Так ждал этой встречи. Все думал, как объяснит и скажет, а тут и слов не найти… Помолчали, глядя на придорожную березу, уже подбитую кое-где ранней желтизною.
– Как живешь? С молодой-то?
Он не ответил. Ему и говорить не хотелось, а хотелось сидеть вот так рядом до самой смерти или идти с ней к дому, как раньше. Уже несло осенней свежестью где-то в глубоких прожилках разгульной теплыни, да обдавал ветер уже забытой трезвенностью и прохладой. Искоса он оглядел ее. Неровная химка седой мочалкой взбита на голове и не красила ее похудевшее за эти месяцы лицо. Губная помада, не привычная для нее, расплылась. Кроме прочего, она была в туфлях на каблуках.
– Наворотила, – горько усмехнулся он и достал папиросы.
– Захотела и наворотила. Я, может, тоже приму кого. Не все тебе.
– Примешь, – сплюнул он. – Токо и забот у тебя…
– Ну, ты зато заботливый. Кобелина!
Глаза у нее загорелись и губы вздрагивали. От жалости у него начало покалывать сердце.
– Нюра. Ну Нюрка!
– Уйди, змей проклятый! Загубил ты мне всю жизнь мою, кобелина! Всю жизнь таскался, ни одной юбки не пропустил. А на старости совсем рехнулся…
– Дура-то, во дура! Хоть бы на минутку поумнела, чтобы выслушать мужика своего хоть раз за всю жисть!
– Ну, где мне, дуре, понять умника такого! Дура я, дура. Вот кто я… Что жила с тобой, прощала все… Умная-то баба давно бы тебя турнула…
Петр Матвеич понял, что дальше об этом говорить бесполезно. Вскипит – и только ее видали… Он заметил, как в доме напротив остановки шевелятся занавески. На них сейчас глядела явно не одна пара глаз. Петр Матвеич кашлянул и спросил:
– Юрка написал?
– Написал!
– А девки?
– Девки его интересуют! Юрка! Ты о детях-то думал когда? Только о своих шалавах и думал! Я Юрке все пропишу, какой отец у него герой…
– Напиши, напиши! Пусть пацана в карцер засадят. Да ты, поди, уж написала!
– А че же, молчать буду? Ты такое творишь, а я молчи!
– Че я творю?! Ну чего я творю? Это ты натворила. Я напился, а ты раздула все! И ниче, ничегошеньки у меня с ней нету. Нюрка! Дура ты, дура. Я пожалел ее, что опозорил… А ты дура такая!..
– Пожалел! Жалелка-то работает!
– Ну, тебе хоть кол на голове чеши! Я же тебе русским языком толкую. – Он все сбавлял тон. Все старался утишить ее. – Как там двор?! Соседи?
– Живут соседи! Кроме тебя, никто домов не побросал. Клавка стоит на своем огороде.
– Стоит?
– Стоит.
– А ты говорила, она меня высматривает!
– Ага, счас, тебя… Нужон ты ей. Я ходила к ней на огород. Оттуда вид хороший. Пригорок же! Лес, речку видать, полянку. Вот она и смотрит. А ты уж обрадовался. Думал, тебя она день и ночь выглядывает.
– Кто обрадовался? Я? Да ты сама это сочинила. А счас на меня сваливаешь!
– Все я тебе сочинила! Всю жизнь я тебе сочиняла! Надьку Басманову тоже тебе сочинила!
– Конечно, ты! А кто ж? Не летела бы сдуру, не дралася сломя голову, а никаких историй бы не было.
– Молчи! Историю я сочинила! А что вы с ней по ночам делаете?
– Спим, чего ж…
– Спите! Я знаю, кобелина косоглазая, что вы спите. Знаю, как вы спите.
– Я сроду косым не был!
– Не был, дак будешь!
Не успел он опомниться, как зазвездило у него в глазах. Она вцепилась ему в лицо и рвала щеки.
– Нюрка! Нюрка, что ты делаешь? Опомнись.
Вокруг них собирался народ, Мужики молчали, а бабы подначивали.
– Дай ему, Нюрка, дай. Ишь, распустились. Ни людей, ни Бога не боятся.
А она билась в его руках, с молчаливой яростью, пытаясь добраться до его лица и волос. Наконец изнемогла, устала. Отдышавшись на лавочке, встала.
– Подожди. Я еще до сучонки твоей доберусь, – спокойно пообещала она и, тряхнув юбку, прошла сквозь баб и пошла посредине дороги, тяжело переступая на каблуках.
Надежда встретила его с усмешечкой.
– Никак с возлюбленной беседовал?!
Он промолчал, а она, подавая ему полотенец, вздохнула:
– Как ваши законные-то беснуются!
Ночью он вышел во двор. Наступил август и ночи были темные и густые, как сажа. Звезды близкие. Он подошел к бочке и поплескал водою на саднившие щеки, потом сел на завалинку и закурил. Он был почти счастлив сегодня.
Надежда становилась все внимательнее к нему. Готовила дома, на печи, и, когда подавала ему вечерами, на ее лице светилось явное удовольствие. Петр Матвеич старался не замечать ее новых халатиков и кудряшек и заходил в дом потемну уже, устроиться на полу. Думать до утра о Нюрахе. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Он ведь никогда в жизни не задумывался, любит ли, нет жену. Вроде и ни к чему это было. Живут, всегда рядом, все вместе. Не будь Надежды, он бы с ней жизнь прожил и не понял бы, как тяжело без нее. Прямо хуже смерти. Иной день двигался, как заведенный, без всякого своего сознания и вдруг остановится да подумает: «Зачем теперь все?! К чему работать, для кого?! И жить зачем?! Во как баба за живое берет. Родителей хоронил, а так не тосковал. О детях сердце болит, но не рвется. А тут просто жизни нет, и все тут!»
Прошло недельки полторы, как однажды, вернувшись с работы, он не застал Надежду дома. Это случилось впервые за время их совместного пребывания, и Петра Матвеича озадачило. Слоняясь по двору, он все поглядывал на небо и поймал себя на мысли, что ждет ее и привязался и к ней. Все же она заботилась о нем эти месяцы и не обижала его. Скудны бабьи ее запасы, а и те перед ним раскрыла. Как могла обихаживала, кормила, стирала, сидела с ним вечерами, глупые ее притязания он и воспринимал как детские. (Маленькая Шурочка его балаболила: «Как вырасту, за папу взамуж пойду…») Таково, видно, сердце человеческое, на ласку, как на клей, пристает… Калитка стукнула уже в полутьме. Надежда простучала каблучками по битому кирпичу ограды мимо него, курившего на завалинке, и влетела в дом. Петр Матвеич докурил папиросу, посидел немного и пошел за нею. Надежда лежала ничком на диване и рыдала. Петр Матвеич от волнения выпил ковш воды, потоптался на кухне, потом подставил к дивану табурет, сел и покашлял. Она рыдала, не обращая на него внимания, рыдала взаправду, взахлеб, громко и непрестанно. Он погладил ее по голове, как всегда, не касаясь волос, в воздухе.
– Вот смотри, смотри, что она со мной сделала! – криком ответила она на его утешение и подняла к нему вспухшее красное лицо.
Петр Матвеич нашарил рукой выключатель, лампочка под потолком вспыхнула. Он деликатно отвернулся от Надежды. Распухшее и изодранное ее лицо было жалким. Как еще глаза целыми остались.
– А страмила-то как! Всяко-всяко! – всхлипывая, жаловалась Надежда, пока Петр Матвеич молча подносил ей воду, полотенец, зеркальце.
Взглянув в зеркало, Надежда взвыла. Петр Матвеич поднес ей чаю и поставил на табурет. Забрал у нее из рук зеркальце.
– До свадьбы заживет, – сказал он ей. – Перемелется, мука будет.
– Народу полная столовая. Одна шоферня. На раздаче я, там дыхнуть некогда. Я и не обратила не нее внимания сначала. И не узнала ее. А она как давай орать. На всю столовку. Такой спектакль устроила, мне хоть под землю проваливайся. Ну я и сказала ей: «Успокойся и иди домой. Так, – говорю, – его не вернешь». А она, как фурия, на меня. Перелетела прямо через раздачу и вцепилась. Прыткая такая, цепкая…
Надежду трясло. Он поднес ей стакан с горячим чаем.
– Ты бы промолчала, она бы не налетела…
– Счас вот, промолчала бы… С чего это?!
– Как-никак я ее муж.
– Был ее муж!..
Ночью Петр Матвеич думал, что пора завязывать с этой историей и что-то решать… От Надежды надо уходить, это ясно, как белый день. Он лежал и думал, к кому. Тамарка – в общежитии, Шурочка – далеко, и одно дело – ехать в гости, другое – жить. Еще неизвестно, что там Нюраха написала девкам. У друга Валерки такая ядовитая жена… Так он перебирал-перебирал и все чаще останавливался на развалюхе на окраине села. Эта брошенная хата старого Казимира. Там печку подладить – и худо-бедно можно перекантоваться. Он уже думал, как вывезет уголь, а ребята из гаража помогут с ремонтом, и на душе легчало. Как он сразу не додумался об этой хатке? Сколько можно было за лето сделать. Но ничего, до снега время есть. Еще есть…
Он не заметил, как на кухне появилась Надежда. В белой ночной рубашке она стояла перед ним белым облаком. Он и не сразу понял, что это она.
– Ты чего, Надежка?! Чего надо, скажи…
– Ничего, – сказала она и легла рядом.
Петр Матвеич вскочил.
– Ты чего это, зачем?!
– Затем. Чтобы зря языком не мололи. Если я потаскушка, то и буду ей. Че испугался-то! Забыл, как это делается! – Она пыталась наигрывать голосом, но голос у нее дрожал и срывался.
– Еще не легче, – наконец понял он, – выдумала! У вас, у баб, ум есть?! Хоть немножко?
– Немножко есть. Знаешь, в каком месте?!
Петр Матвеич заметался по кухне в поисках брюк.
– Че забегал-то? Или тебе баба, что ли, совсем не нужна?! Меня же не обманешь.
– Надежка-Надежка! Ну, до чего ж вы глупые, бабы! – Он подошел к окну, взял папиросы. – Разве ж от отчаяния под мужика кидаются?
– А от чего под него кидаются? – тихо спросила она.
– От любви… Ну, отчего… для детей…
– Ой, заговорил. Ты сам талдычил: навыдумывали любви!..
Он молчал и курил у окна. Она тоже молчала, потом хрипло заметила:
– Что-то холодно.
Ее, видать, действительно колотило от страха и волнения. Петр Матвеич подался к печи, выгреб золу и быстро забросал топку дровами. Огонь занялся сразу, и печь загудела, весело озаряя кухонку. В этом зареве он видел ее, лежавшую на полу и глядевшую в потолок. Хоть и припухшее сейчас, ее молодое лицо не было печальным.
– Не тоскуй, Надежка, – робко утешил он ее, – все у тебя будет хорошо. Ты вона красавица. И руки у тебя справные, и все у тебя есть. Чего тебе кого попало подбирать. Найдется у тебя судьба.
– Найдется! – Надежда усмехнулась и сиротливо повернулась на бок, положив ладошки под щеки. – Тебя вон и то обольстить не могу. Чем я хуже твоей Нюрки? Я молодая. Одетая как надо. Она, как елка, – навзденет на себя этих юбок.
– Какая есть!
– Вот видишь? Тебе, какая есть! А я вот никакая не гожусь.
Петр Матвеич вздохнул, налил чайник, поставил его на плиту.
– Эх, Надежка-Надежка! Как ты рассуждаешь. А тут арифметика простая. На молодую моложе найдется, на красивую милее, на умную умнее. Сама понимаешь, а тут нужна одна – своя баба! Какую уж Бог тебе дал. Моя и все! – задумчиво повторил он себе и пошел к печи, открыл дверцу и смотрел на молодой яркий огонь, на снопы искр, разлетающихся по раскаленному зеву печи.
– И тебе найдется твой. Поди, уж находился, да ты, вона, гордая какая. А жизнь, она гордых не любит. Она их мнет, как кожу, чтобы помягчели. Так-то, дурочка… моя.
– Ниче я не гордая! Это так, для форсу. Не особенно мне и находилися. Серьезного-то никого не было.
– Будут еще, подожди.
– Сколь ждать-то? – вздохнула она. – Уже бабий век кончается!
– Еще и не начинался. Вот родишь, тогда и баба начнется в тебе…
Чайник вскипел быстро, и Петр Матвеич подал Надежде чашку свежего чаю.
– Вишь, как с тобой хорошо-то! – сказала она. – Чай в постель носишь. – Она не смотрела на него. Села и пила чай.
– Ох, и докатилася я, сама мужику в постель лезу. Правильно Нюрка твоя кричала, потаскушка я и есть.
– Э-эх, сиди молчи. – Петр Матвеич взмахнул рукою. – Ты их и не видала, потаскушек-то. Да у нас их и нету в деревне…
– А ты видал…
Он промолчал и закрыл трубу печи.
– Ну, будет, иди спать. Все у тебя хорошо будет. Выйдешь замуж за своего мужика. Нарожаешь ему еще кучу. Вот здеся пеленки висеть будут. А счас иди, а то на раздаче спать будешь.
– Твоя Нюрка даст поспать! – усмехнулась Надежда.
– Ничего, она больше не придет. Я ее знаю. Она теперь пар спустила… Пока будет новый копить.
– Спасибо, утешил!
Надежда встала, потянулась, без смущения и все тем же деланно-наигранным тоном сказала:
– Не надо мне другого мужика. Мне, Петр Матвеич, ты нужен…
Петр Матвеич отвернулся к окну и закашлялся.
– О, дуры бабы!
* * *На другой день после работы Петр Матвеич подался на другой конец села смотреть Казимирову завалюшку. Он шел огородами по ручью, чтобы не встретить баб либо саму Нюраху. У своего огорода приостановился. Огурцы еще были открыты. Капуста круглилась крепенькими бочками. Будет что солить на зиму. Только картошка вот редко посажена. Интересно, пробовала ли нет Нюраха картошку? Раньше на Ильин день они подкапывали картошку на пробу. Варили котелок и с первыми огурчиками ужинали… Хоть глазком глянуть сейчас на котелок, да какие огурцы у Нюрахи уродились. Он постоял, как мальчишка, выглядывая в щели забора, и пошел далее. Казимирова хатка стояла на отшибе как-то особнячком, выкривляя правильность полукруга улицы. Он был татарин, этот Казимир, и все любил делать поперек. Детей у него не было, баба умерла сразу вслед за ним. Она любила вино и попила-погуляла с полгода после него. Так пьяная и померла. Хоронили с миру по нитке. Вот здесь и лежала. На дворе под сентябрьским смиренным солнышком. Тихая лежала, с детским испуганно-изумленным лицом…
Ворота двора были сняты, и изгородь почти вся сожжена в кострах. Огород наполовину зарос кустарником. Ольха и малина забили разрушенную баню и клети. Он вошел в дом. Подпольной запустелой сыростью дохнуло на него, хотя окна были давно вынесены вместе с рамами, но воздух улицы словно обходил дом, не попадая в него. Печь развалена, без плиты и дверцы. Но сам дом еще крепок, просторен. И кровать осталась. Стол сам сколотит себе с табуреткой… Он успокаивал себя этими заданиями, но сам дом произвел на него тягостное впечатление. Тянуло на воздух, и он почти выскочил в ограду, поднялся на огород и сел в густых зарослях череды и ромашки. От волнения закурил, отдыхая в теплом мареве от пребывания в смрадной избе.
«Да, – думал он, – нескладно, несладко завершается жизнь. Вона с чего приходится снова начинать. Все заново, как и не жил! Как бабай буду! Ну и пусть!» Ему даже послаще стало от жалости к себе. И впервые за все последнее десятилетие он почувствовал себя одиноким, и это было совсем новое чувство для него. Было когда-то похожее еще подростком, но все забылось… Уже смеркалось. Дни заметно стали короче, и сразу понесло холодом от зелени. Он поднялся, обеими руками опираясь в спину и усмехнулся. Жених, твою мать… Обратно шел улицей и торкнулся в свою калитку. Она была заперта и окна занавешаны. Зато окна соседей были ярко освещены и открыты. У окна за столом сидели Клавдийка с Виктором. Они ужинали. На столе стояли отварная молодая картошка, мясо и огурчики молодого посола. Они ели, не глядя друг на друга, но в неторопливо-уверенных, плавных их движениях было все одинаковое, словно они единый организм, и на их молчаливых спокойных широких и твердых лицах было одинаковое выражение…
Надежда встретила его у калитки. Сопроводила в дом. Пока Петр Матвеич мыл руки, подала хорошего домашнего борща.
– Я знаю, что мы будем делать, – сказала она, когда Петр Матвеич начал хлебать борщ. – Мы с тобой уедем в город!
Петр Матвеич поперхнулся. Она подошла к нему, постучала ладонью по спине:
– Да, да! Здесь нам житья не дадут! И вообще, нас там никто не знает. Я уже все продумала…
Петр Матвеич отодвинул от себя тарелку, встал, с досадой потянулся к папиросам.
– Ну, чего ты? Разве плохо я придумала?!


