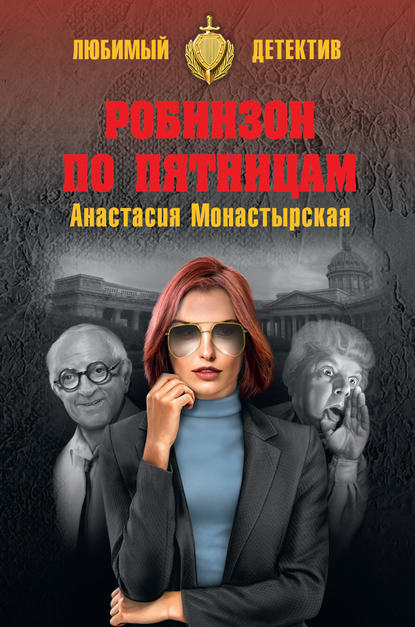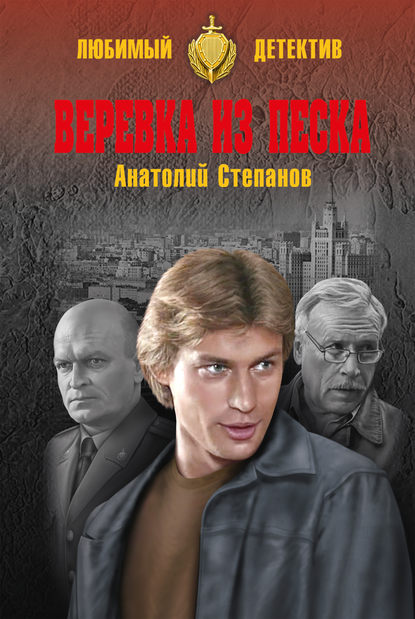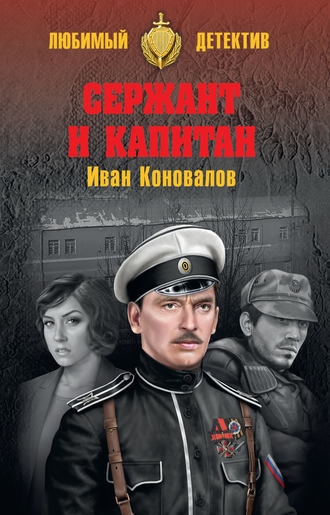
Полная версия
Сержант и капитан
– Иди, Федор Терентьич, они тебе измены не простят.
Он собрался, суетясь, выправился во фрунт, отдал честь и вышел из хаты, где я квартировался. Я уже решил, что отправлюсь на Дон к генералу Корнилову. У солдат шел буйный митинг. Мое исчезновение из полка было совершенно не замечено. Я забрал санитарную двуколку и ехал не торопясь, по мягкому молдавскому тракту, когда через три версты верхом догнал меня Семечкин. Поравнялся с двуколкой и сказал:
– Нет, Иван Павлович, как хотите, но боле я в энтот вертеп не ходок. Лучшее с вами неизвестно куда.
Но не удалось нам сразу добраться до своих. Впрочем, о моих с Семечкиным похождениях по большевицким тылам нужно написать отдельный дневник. Слишком много чего случилось. Попали мы к красным. И чтобы не расстреляли, записались в армию красного командарма Муравьева. Сражались с румынами, причем Семечкин был командиром роты, а я его подчиненным. Когда Муравьев разбил румын под Рыбницей на Днестре, я решил, что надо уходить. К апрелю 18-го года наконец добрались мы до Новочеркасска. В мае один-единственный раз видел я нашего командира генерала Маркова. Энергичный, живой, сильный. Он зашел в казарму и поздоровался. Сказал какую-то шутку, которой я уже не помню. Через месяц, командуя кубанцами и донцами, он был убит под Шаблиевкой, а весь наш полк в полном неведении так и стоял в Новочеркасске. Второй раз я видел генерала Маркова в домовой церкви при Епархиальном училище. Он лежал в гробу. Церковь была полна. Я подошел и отдал честь.
Постепенно, читая дневник, Никита приходил в себя. Столько лет лежала эта тетрадь в деревянных перекрытиях старого дома. Интересно, кто ее спрятал туда? И как вообще тетрадь добралась до Москвы? Логично было бы, если бы она всплыла где-нибудь в Париже, Берлине или Нью-Йорке. Наверное, автор погиб, и дневник взял красный командир на память. Тогда зачем прятать так далеко?
1 октября 1919 года. Происходит что-то серьезное. Похоже, наше наступление захлебывается. Мы высадились на станции Становой Колодезь, что в 20 верстах от Орла по железной дороге, и сразу двинулись на запад. За нами прибудет и 3-й батальон. Здесь – штаб Корниловской дивизии. Теперь будем действовать вместе с ними. Причина проста. С западного направления Латышская дивизия красных вклинилась между Дроздовской и Корниловской дивизиями, захватив маленький городок Кромы. Корниловцы в Орле оказались под угрозой окружения. Будем вместе с ними вышибать латышей из Кром, спасать фронт.
2 октября 1919 года. Наш второй батальон наконец-то столкнулся с латышами. Это был встречный бой. Латыши успели переправиться через Оку южнее Орла. Мы наткнулись друг на друга без особого желания. Латыши явно хотели обойти всех и вся, но столкнулись с нами. Я шел со своим взводом в цепи на правом фланге роты и первым красных не увидел. В небольшом леске началась мощная стрельба залпами. Наши бежали оттуда, отстреливаясь. Командир роты приказал нашим остановиться, несмотря на протесты. Необстрелянная молодежь заволновалась:
– Там наших убивают, господин поручик!
– Заткнуться, господа, – рявкнул я. – И слушать меня, иначе все вы умрете. Хотите?!
Все замолчали.
– Сейчас кавалерия с нашего фланга попытается обойти батальон, мы – его единственное спасение. Приготовиться к отражению кавалерийской атаки!!!
Марковцы собрались кучками, ощетинившись штыками. Вперед выдвинули единственный «максим». Конная атака не заставила себя ждать. Они вылетели из леска без крика, без визга. Латыши – не наши казаки. Отчаянно застрочил пулемет. Я слышал откуда-то издалека только свой голос:
– Господа. Стоять, бить по лошадям, не отходить. Стоять, бить по лошадям, не отходить.
К счастью, кавалеристов оказалось немного – человек сорок. Кого-то мы сбили первыми залпами. Остальные начали нас рубить. На меня налетел здоровенный латыш на кауром жеребце. Белесые глаза его сверкнули беззлобно, но сосредоточенно и напряженно. Он думал, как меня порубить по всем правилам. В этот момент я поскользнулся в чертовой октябрьской грязи и, рухнув спиной на землю, случайно воткнул штык своей трехлинейки прямо в пузо каурого. Жалобно заржав, конь завалился на бок, а латыш, проявив удивительную сноровку, прыгнул на меня и хотел вцепиться в горло. Какая глупость. В другой руке я держал револьвер. Я просто приставил его к виску нападавшего и выстрелил. Его отбросило в сторону, и полузалепленными его кровью глазами я сумел рассмотреть, как красная конница бежит. Молодняк с воплями гнался за уходящей рысью конницей и стрелял вслед.
– Назад, – заорал я из последних сил. – Держаться позиций.
Через несколько секунд подлетел конный вестовой и крикнул, что батальон весь отходит. Собирать убитых времени нет. Вот тебе и удержали позиции. Я быстро осмотрелся и крикнул проверить раненых. Семь молодых марковцев мертвы. Несколько легкораненых, а тяжелораненых вообще нет. Все пошли своим ходом. «Молодцы», – сказал я про себя, но вида не подал. Боюсь, впереди у нас бои похуже. Семечкин вернулся назад и снял с красного кавалериста отличный цейсовский бинокль и принес мне. Я взял, но строго пожурил:
– Федор Терентьич, я тебе всегда говорил, снимай с покойников лишь тогда, когда эти вещи тебе безусловно нужны. У меня же есть бинокль.
Хитрый Семечкин ловко отбился:
– Так и поступлено согласно вашему приказу. Бинокля не сапог, нынче она важнее. Эта лучшее. А вашу послабее на табак обменяю. Ваша бинокля будет сильнее, смотреть вы будете дальше – мы все будем живее.
Отступив, мы подсчитали потери. 125 убитых и раненых – четверть батальона. У красных потери несомненно выше, но разве это что-то решает. Они каждый день подвозят новые войска, а мы только отправляем в тыл раненых и гробы.
3 октября 1919 года. На следующий день мы вернулись на этот берег Оки и посчитались с латышами. Выбили их за реку. Я только бежал, стрелял, кричал. Взвод бежал за мной, пытаясь делать примерно то же самое. И только когда наша атака закончилась, мы стали собирать тела погибших вчера товарищей. Их было слишком много. Я не смог на это смотреть. Сидел на берегу Оки и наблюдал за тем, как какие-то красные кавалеристы готовят ужин. Потом они тоже расселись по бережку и стали рассматривать меня. Быть центром внимания мне тут же расхотелось. Я встал, выбил пыльную фуражку об колено и расправил плечи. И мне показалось, что кто-то из них помахал мне с того берега рукой. Абсурд!
Вечером сказали, что теперь наш батальон переходит в подчинение 2-го полка Корниловской дивизии. Временно мы больше не марковцы, хотя какая разница.
5 октября 1919 года. Корниловцы оставили Орел. Пока это, конечно, ничего не значит в стратегическом плане. В этой войне и мы, и красные по стольку раз занимали и оставляли города и станицы, и снова занимали. Однако знак плохой. Мы выдыхаемся. Выравниваем фронт. Наверное, сейчас Кутепов требует у Май-Маевского подкреплений, а его превосходительство бомбардирует, в свою очередь, Деникина. А тот в ответ разводит руками.
Весь вчерашний день вяло перестреливались с латышами. Приходили в себя после недавней бойни на берегу Оки. Командир нашего батальона капитан Стрелин Александр Викторович старался подбодрить молодых. Он ходил из взвода в взвод и говорил с ними об обстановке на фронте, о том, что положение тяжелое, о том, что они показали себя отменными бойцами и поддержали марковские боевые традиции. Мне поначалу показалось все это смешным, ненужным, неуместным. Стрелину самому от силы двадцать пять, и пять из них он ничего, кроме войны, не видел.
Пропасть между ним, мной, другими стариками и этими мальчишками пока велика. Но еще месяц таких боев – и те из них, кто останется в живых, станут такими же бесконечно усталыми настоящими солдатами.
Когда Стрелин пришел в мою роту и в мой взвод, старые добровольцы ушли, чтобы не смущать его. Я остался по долгу службы, стоял позади комбата, вместе с другими взводными и ротным, и наблюдал за их лицами. Слушали с огромным вниманием. На похвалы радостно улыбались, те, что из бывших гимназистов и реалистов, даже смущались. Особенно интересно было наблюдать за двумя братьями Евтюховыми. Старшему двадцать, младшему семнадцать. Крестьяне Орловской губернии. Военного опыта, кроме вчерашнего боя, никакого. Пришли в полк сами. Причины того, почему решили присоединиться к белым, объяснили просто:
– Продразверстка поперек горла встала. Подчистую все гребут комиссары. Вот и порешили мы к вам податься. Оно, конечно, в бандиты можно было бы. Да не душегубы мы, чтоб разбоем кормиться.
Все моменты речи командира батальона отражались на простодушных евтюховских физиономиях.
Вечером зашел в хату, где расквартировался поручик Бочкарев, и рассказал ему о своих мыслях. Дима усмехнулся:
– А ты, Ваня, еще и думаешь, размышляешь, травишь себя рассуждизмами, физиогномистикой занимаешься. Смотри, не застрелись случайно. Давайте лучше выпьем, господин поручик. У хозяина моей гостиницы отменнейший самогон. Чистая слеза. Если не придираться к вкусу, запаху и цвету, то с натяжкой можно представить, что пьешь кальвадос.
В огромной бутыли, которую он достал из-под стола, плескалась вязкая мутная желтоватая жижа. Но на вкус действительно нечто похожее на кальвадос. Подошли поручик Казначеев и капитан фон Лангер. Казначеев – взводный в бочкаревской роте. Фон Лангер – помощник командира батальона. Фон Лангер вручил мне предписание – немедленно отбыть на станцию Дьячье и взять под командование роту в третьем батальоне. Быстро полковник Наумов выполнил свое обещание.
– А это вам, господин капитан, ваши новые погоны. Теперь вы больше не поручик, разрешите вас с этим поздравить. Извините, что в боевой обстановке… – С этими словами он отдал мне «построенные» втайне от меня капитанские погоны.
Выпили за мое новое назначение и звание. Потом они сообщили, что завтра на станцию Дьячье прибывает первый батальон полка, там соединяется с уже заскучавшим третьим батальоном и вновь становится полноценным 3-м Офицерским генерала Маркова полком. Затем выдвигается на позиции.
– А это неспроста! Помяните мое слово, господа. Орел сдан, но это не конец наступления на Москву. Через несколько дней снова пойдем вперед, и на этот раз сломаем красным хребет. И так сломаем, что никакой большевицкий хирург не соберет, – выпив, заявил фон Лангер и раскатисто рассмеялся. Капитан фон Лангер всегда был редким оптимистом и, кроме того, считал, что у него отличное чувство юмора. Мы его никогда не разубеждали в этом. Человек, в сущности, он был неплохой, к тому же он всегда первым узнавал последние новости. Насчет наступления он, скорее всего, прав.
Я почувствовал, что захмелел после одного стакана. Такое со мной редко случается. Видимо, сильно устал за эти дни. Разговор не клеился. У всех было разное настроение. Бочкарев, впав в меланхолию, молчал и пьяно улыбался. Капитан и поручик болтали без умолку, не перебивая друг друга. Замолкал один, тут же начинал говорить второй. Вспоминали, как они веселились месяц назад в Таганроге. Барышни, пиво, шампанское, вечеринки, синематограф. Казначеев начал пересказывать последнюю фильму Веры Холодной. Это было уже слишком. Я поддерживал разговор недолго, и, сославшись на необходимость завтра рано отъезжать, пожелал всем скорой победы, обнял поручика Бочкарева.
Пока шел до своей избы, прислушивался к звукам, которые были слишком невоенными. Где-то перекрикивались часовые. Залаяла собака. Ни пушечной канонады, ни отдаленного таканья пулемета, ни одного выстрела. Это я называю тишиной. А тишину за последние годы я совершенно разлюбил. Она стала слишком непривычной.
7 октября 1919 года. Перед отъездом построил свой взвод, сказал, что должен ехать, что они были молодцами в последнем бою, и что я верю в них, и что сожалею, что у нас не было времени узнать друг друга. Но добавил, что не исключено, что они вновь могут оказаться под моим командованием. Пути Гражданской войны неисповедимы.
Станция Дьячье. Полк собрался как боевая единица. Два батальона – 1-й и 3-й. Славно. И артиллерия теперь своя есть. Настроение даже у меня улучшилось. Наша новая задача – занять оборону на широком фронте между Окой и правым флангом Дроздовской дивизии. Сегодня писать что-то не хочется. Пришел в 3-й батальон, он был расквартирован в теплушках, и принял свою роту у поручика Иванова. Его переводили в запасной батальон. Тяжелая форма чахотки. Мы перебросились всего несколькими незначительными словами.
Ничего не меняется, в этой роте тоже одни мальчишки-студенты и крестьяне, с десяток пленных красноармейцев. На 120 человек всего 10 старых добровольцев. Унтер-офицеры и фронтовики Великой войны. Некоторые знакомы мне. Фельдфебель Сидоров Семен, георгиевский кавалер, удовлетворенно погладил нафабренный ус, увидев меня, и заметил:
– Ваше благородие, Иван Павлович, помните меня под Кагальницкой? Ловко вы тогда краснюка прикололи, что мне в спину целился. Разрешите сказать, что рад служить под вашим началом.
– Помню, Семен Аркадьевич. Надеюсь на твою помощь с молодыми.
– Да вы не сумлевайтесь, парнишки толковые.
Запомнился на станции один дед. Такой бородатый и древний, что, наверное, видел нашествие Наполеона. Стоял в стеганом рваном полушубке и валенках, с надетыми от грязи лаптями, среди всей этой железнодорожно-солдатской суеты и продавал папиросы. Утверждал, что табак Асмолов № 7. Я поверил и купил у него россыпью три десятка и спросил:
– Как дела, дедушка?
– Дела как у всех, ваше благородие, ждем, – шамкнул дед в бороду.
– Чего ждете?
– Когда вам убивать друг дружку надоест.
– Смело говоришь. Мы же за правое дело бьемся. За освобождение России. Неужели ты, мудрый старый человек, этого не видишь?
– Я много чего вижу, – прищурился дедок, – да тока то ж самое мне один красный командир говорил, зараз, за денек до вашего прихода. Моя вера мертвая, мне все равно скоро помирать. Одно скажу, господин офицер. Вы святого креста не сняли, и в том, может, ваша правда. Сражайтесь, покуда сил хватит, если мириться никак нельзя.
– Нельзя.
– Не повезло вам. – Дед безнадежно махнул рукой и побрел, хромая, в сторону прибывающего нового эшелона.
8 октября 1919 года. Получен приказ – перейти в настоящее наступление на Кромы. Во фланг обходящей собравшихся под Орлом корниловцев красной ударной группе. Сейчас мы знаем, что кроме латышей в этой группе червонная кавалерийская бригада и бригада Павлова. Хороший офицер, знал его еще по Великой войне. Капитан лейб-гвардии Волынского полка. И я капитан. Смешно. У него бригада, и он теперь красный генерал, а у меня рота.
Латышской дивизией командует генерал Мартусевич, Южным фронтом красных – полковник Егоров. Бывшие. Ничего не понимаю.
Нет, когда все начиналось, в конце 17-го, многие устали от войны, многие не могли понять, что происходит, метались, многих силой заставили идти служить в Красную армию. Но сейчас конец 19-го. Все точки над «i» расставлены. Бывшим офицерам большевики никогда не будут верить полностью.
10 октября 1919 года. Вчерашним морозным утром наши колонны выступили на Кромы. Колонны шли образцовым порядком, но в нехорошем молчании, без песен, без шуток. Мы понимали, что нас ждет большая кровь. Перед выступлением я разговаривал с ротой о нашем долге и наших целях. Должен признаться, что получилось так же казенно, как у капитана Стрелина несколько дней назад во втором батальоне.
Шедшие впереди дозоры завязали бой. Батальоны развернулись в боевой порядок и начали наступать на села, прикрывающие Кромы, – Спасское и Добрыня. Навстречу моей, развернутой в цепь, роте из Спасского вылетела цыганская кибитка. Как она там оказалась? Возница бешено хлестал четверку коней и что-то кричал. Два желтых облачка шрапнели рванули прямо над кибиткой. Стальная очередь накрыла ее. Щепки полетели в воздух. Повозка перевернулась. С земли никто не поднялся. Лошадей переранило, но они не упали, а раздернулись в разные стороны и рванули вперед. Постромки лопнули. Четверка понеслась прямо на нас. Мы пропустили ее, расступившись, и не сбавили очень быстрого шага. Заговорили наши трехдюймовки. Разрывы были видны за селом. Наши били гранатами. Рота приободрилась.
– Скорее шаг, господа, – прикрикнул я.
Весь батальон стремительно наступал. Пулеметы не успевали за нами. Пулеметчики тащили их на лямках и выдохлись до последней степени при выходе на позиции. Мы взяли Спасское на штык. Латыши без паники отступали, умело огрызаясь. Третья рота, шедшая справа, отличилась, потеряла всех офицеров. Ее довел до штыкового удара унтер Матвеев.
Моя рота, слава богу, добежала вместе со мной. Пулеметный огонь красных был кинжальный. Убитых было много. Я видел, как они падали и справа, и слева. Мальчуган Павленко, гимназист лет шестнадцати, полз на коленях, блюя кровью, и премерзко матерился. Я перескочил через него на бегу, крича: «Санитары…», не оглянулся и побежал дальше.
На околице села схватились в штыковую. Узкое пространство между двумя избами. Покосившийся забор справа почти перекрыл проход. Я ворвался туда первым. Латышей человек десять. Бегут на меня. Рослые, в добротных шинелях. Штыки наперевес. Я оглянулся, за мной никого. Пора умирать. Упал на колено и выстрелом в пах первого сбил. Вдруг справа и слева горохом посыпался мой молодняк… Кто-то даже через меня перескочил. Никакого уважения. Догнали меня за доли секунд. Надо бегать медленнее. Целее буду. Они перекололи латышей в два счета, но это был только авангард. Целая рота тут же нас контратаковала.
– В штыки! В штыки! – бешено орал я.
Фельдфебель Сидоров разом бросил на узкой улочке две ручные гранаты. Задело и своих, и чужих. Мои мальчишки вопили что-то несусветное, что-то школьное или гимназическое, как будто лупили циркулями ненавистных учителей иностранных языков. Латыши кричали на своем языке. Старые добровольцы молча работали штыками, стараясь прикрыть меня. Это продолжалось секунды. Красные ринулись бежать в обратную сторону. Преследовать сил не было.
– Отставить преследовать, – вопил я. Мальчуганы сделали в тот момент столько, что я не хотел терять ни одного из них. Пусть насладятся победой. Унтер-офицеров в моей роте трое, все георгиевские кавалеры. Молодняк на их попечении. Комвзода прапорщик Лавочкин восторженно отдал мне честь:
– Вот это атака, господин капитан, вот это атака!
Купеческий сын Аркадий Лавочкин вполне соответствовал своей фамилии и своим практицизмом и суетой за сутки сумел раздражить меня. Он умел все достать и ничего не потерять. Через два часа после моего прибытия в роту уговорил меня сфотографироваться вместе с командирами взводов. Я был удивлен, но на станции Дьячье он каким-то образом нашел заезжего фотографа. Внутренне окрестил его «обозной душой». Но в этой атаке я лично видел двух заколотых им врагов.
Тяжело встав, я проковылял вдоль прижавшейся к деревянным деревенским заборам роты и сказал:
– Не увлекаться. Но за мной!
Мы гнали латышей еще какое-то время, но остановились в двух верстах от Кром. Опять фланги оказались открытыми. Нас могли обойти. Будь у нас чуть больше сил, мы могли бы прикрыть фронт плотнее. Дыры, дыры, кругом дыры по фронту, которые мы заткнуть не можем. Кстати, потери обоих батальонов достигли четверти состава. Пиррова победа.
На следующий день мы атаковали хутора вокруг городка. Тактика нашего командира полковника Наумова продолжает меня изумлять. Два батальона и разрыв в три версты между ними при наступлении. Мы что, играем с красными в поддавки? Городок мы не взяли, и слава богу. Я бы потерял всю свою роту. Пора понять, что красные тоже уже научились бить в лоб. Только мы делаем это молча, а они под пение «Интернационала». Нужен маневр. Ночью латыши ударили, и Офицерская рота бежала в полном составе. Вот это да! Офицерская рота! И потеряли весь обоз.
* * *Наступил понедельник. Без десяти девять утра Никита Корнилов прибыл на работу. Приехал на такси. В черном костюме, в черном галстуке и белой рубашке. Он еще поднимался по ступеням, когда Митя сам вылетел навстречу в сопровождении охраны.
– Никита, отлично, что приехал раньше. Двинули на объект. Нам его вчера передали под контроль, а вчера, если ты помнишь, было воскресенье. Это многого стоит. Долго за него бились. Хочу, чтобы ты его увидел. Он будет в твоем ведении. Важный дом.
Когда кортеж выехал на Большую Никитскую, а потом свернул во дворы, Никиту окатили неприятные предчувствия. Ему были знакомы эти места. Дом Карандыча в дневном свете казался еще меньше. Четырехэтажный, аккуратный, маленький, желтый. Вокруг него уже был огорожен сетчатый забор. Никита огляделся, отыскивая взглядом Карандыча или хотя бы кого-нибудь из его воинства. Разбитое войско попряталось.
Они прошлись по этажам. Митя отдавал приказания. С перекрытиями осторожнее, чердак не трогать до особого распоряжения, охрана круглосуточная, бомжатину разогнать. И главное, со стороны конкурентов могут быть какие-нибудь акции, например, поджоги. Перекрытия-то деревянные. Прямо в подъезде Дмитрий сказал небольшую речь:
– С сегодняшнего дня за безопасность объектов отвечает вместе с Романом Евгеньевичем еще и Никита Иванович. В вопросах безопасности он имеет право действовать самостоятельно. Прошу любить и жаловать. – Митя царственным жестом указал на Никиту. Но все столпились в лестничном проходе и потому даже головы не повернули.
– Все. Никита, иди домой. Сегодня ты больше не нужен. Свою миссию ты исполнил.
– Пока, – ответил Никита и вышел, не прощаясь. Он присел в детской песочнице. Победители старых стен уехали. Пора ждать появления Карандыча и остальных. Они не преминули себя обнаружить. Карандыч вышел из-за угла. На него было больно смотреть. Разгромленное воинство Карандыча столпилось сзади. Сегодня их было больше. Не трое, шестеро. Ради этого зрелища Карандыч привел весь бомонд. Тырич плакал, немытым кулаком вытирая глаза, и толкал атамана в бок. В руке его была грязная бутылка с фальшивой этикеткой.
– Выпей, друг, – повторял он, как заведенный.
Но атаман, не отрываясь, смотрел на огороженное ажурной металлической сеткой родное пепелище.
– Карандыч, куда пойдешь теперь? – спросил Никита с виноватым видом.
Не ответив, тот махнул рукой, развернулся прочь. Тырич, все еще хлюпая носом, развел руками перед Никитой: «Мол, извини ты нас, и мы тебя прощаем». Они ушли, и Никите сразу стало легче. Он сидел в песочнице, чертил на сыром песке что-то похожее на скандинавские руны и смотрел на желтый куб дома. Офицерский дневник лежал во внутреннем кармане. Никита достал его и открыл на недочитанной странице.
11 октября 1919. Кромы. Переправы и городок Кромы мы взяли сегодня быстро и почти без потерь. Слева помогли дивизионы Черноморского конного полка. Моя рота даже ног не замочила. Латыши как-то легко ушли. Может, ловушка? Штаб расположился в трех верстах к югу. Мой комбат капитан Павлов сказал откровенно:
– Это ловушка, господа. У нас за спиной река. Весь наш фронт за ней. Мы на выступе, который противник захочет сегодня же ночью срезать.
Он и комбат-1 звонили в штаб и говорили, что удержать пятиверстовый фронт и городок со множеством маленьких улочек невозможно, если будет ночная атака. Они требовали, чтобы командир полка приехал и сам проверил обстановку. Но Наумов требовал одно:
– Город удержать любой ценой.
День. Кромы в наших руках. Я решил немного пройтись по главной улице. Кромы больше похожи на большое село, чем на город, который, как я недавно узнал, старше Москвы. Фельдфебель Сидоров и его земляк и приятель, рядовой Авдюхин Матвей, крестьянин сорока двух лет, были в моем сопровождении. Авдюхин был командиром отделения в красном полку и убежденным сторонником большевиков. В бою под Армавиром Сидоров и Авдюхин столкнулись в лобовой штыковой атаке. Наши сломили красных и погнали их. Сидоров бежал за Авдюхиным с криком:
– Стой, сволочь. Ты что, меня не узнаешь, свояк? Я ж твой сосед, Семен Сидоров.
Авдюхин остановился, повернулся, воткнул штык в землю и сказал:
– Не узнаю, но сдаюсь. Давай поговорим.
Не знаю, что такого красивого рассказал Сидоров про белую армию, но Авдюхин бесповоротно перешел на нашу сторону. Они мне эту историю вместе пересказывали еще после боев под Армавиром.
Кромские обыватели осторожно выглядывали из-за своих заборов. Они понимали, что город нам не удержать, и решили не высовываться на всякий случай. Только в колокольне церкви на холме возле речки били благовест. Священникам нечего терять. Артиллерия увлеченно грохотала где-то справа. По улочкам мелькали серые и черные марковские шинели. Посреди Никитской улицы, что за Дворянским собранием, огромная гоголевская лужа. В ее еще не замерзшей грязной воде плескались серо-белые гуси. Удивительно, что их еще до сих пор не съели.
12 октября 1919 года. Когда вчера днем я писал свои заметки, увидел бегущего ко мне Сидорова. Он кричал:
– Господин капитан, бежите сюда, ей-богу, скорее бежите сюда, что мы нашли…