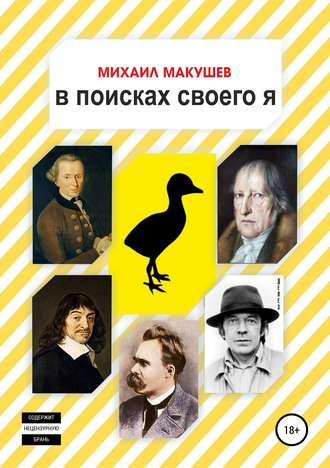 полная версия
полная версияВ поисках своего я
Дерево когда-нибудь бы упало всё равно, но молния сваливает его за секунду. Время и электричество могут быть похожи ив том, что не убивают. Известно статическое электричество, которое не убивает. Время без стрелы, по идее, тоже не должно убивать.
«Приходит день, и человек замечает, что ему тридцать лет. Тем самым он заявляет о своей молодости. Но одновременно он соотносит себя со временем, занимает в нём место, признаёт, что находится в определённой точке графика. Он принадлежит времени и с ужасом осознаёт, что время – его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, а теперь знает, что от него следовало бы отречься». (А. Камю).
Мы должны признать, что большую часть жизни не думаем о времени и о своём возрасте, личное время, по впечатлению, не течёт. Мы замечаем его течение иногда, как угрозу: «то чувство, что завтра уже сегодня, а ты ещё вчера». – но это бывает только в какие-то моменты, когда время начинает осязаться. Как тяжесть, время не доставляет никакого удовольствия. Если кто-то забыл, – дети тоже недовольны своим возрастом, им всегда кажется, что мало лет. Как лёгкость, время тоже не доставляет никакого удовольствия. Из-за неудовлетворяющего нас течения времени картина человечества – это картина встревоженности. Мы хотим либо скорее стать взрослыми, либо боимся прибавляющихся лет. Время и возраст можно воспринимать только, как что-то внешнее по отношению к себе, как угрозу: Я + мой возраст = кто-то «другой». Мы для себя – внешний мир вместе с временем и возрастом, кто-то, с кем неприятно соотносишься, как с дискурсом.
Представление о своём возрасте может быть галлюцинаторным, как это и бывает с внешнем миром, и чаще всего – галлюцинаторным менталитетом или каким дискурсом. В мои пятнадцать лет, например, моим убеждением было, что сексом можно заниматься лет до тридцати. И надо спешить, ибо половина этого срока уже прошла. Возраст в тридцать лет определил для меня возраст актёров в фильме «Анатомия любви». Люди состояли в браке и после тридцати лет. Что они там делали? Я бы раздвинул свои умственные горизонты, если бы задал себе такой вопрос, но я предпочёл поверхностный вывод и успокоился. О, моя зашторенная юность! Я могу сказать в своё оправдание, что у меня ещё была вся жизнь впереди, казалось, возраст в тридцать лет никогда не наступит и будет болтать где-то впереди. Я таким путём отделывался от времени, но зачем вообще сочинял его течение? Это морока – представлять себя в категориях времени: ты, всё равно, никогда не народ. Если время стоит в сознании, это расслабляет. Движение времени побуждает конструировать понятия, – а мыслить трудно. Мозг привык лениться и от этого получать эндорфины. (С. Савельев).
Итак, в сознании время стоит, а не течёт. Течение времени замечается нами только иногда и, как угроза. Мы воображаем эту угрозу, но какой-то простой смысл активно к ней относится, и время в сознании стоит каким-то простым образом. «Есть существенный элемент времени – прошлое, никогда не бывшее настоящим. Он не представлен, только настоящее представлено, как прошедшее или актуальное. Последовательность настоящих – проявление чего-то более глубокого. Уровни сосуществования предлагаются из глубины прошлого, которое никогда не было настоящим. Они – способ, которым каждый из нас восстанавливает свою жизнь на выбор. Эдип уже совершил своё действие, Гамлет – ещё нет. Но они проживают первую часть символа в прошлом, живут и отброшены в прошлое, так как чувствуют, что образ действия им несоразмерен». – Это Делёз пишет о мифическом времени древних. В цитате Делёза присутствует тревожный пафос, но как раз мифическое прошлое время он связывает с принципом удовольствия: «Маленький ребёнок, имитируя процесс чтения, всегда переворачивает книгу корочками вверх. Он при этом никогда не ошибается, потому что воспроизводит только фрагмент прошлого на основе принципа удовольствия». Мифическим прошлым для Делёза является и время, в котором живёт алкоголик: «Алкоголизм – это поиск особого эффекта, последний состоит в необычайной приостановке времени». В беспечном состоянии пребывают и любовники: «счастливые часов не наблюдают». Кажется, в мифическом времени отсутствует стрела времени. События, где мы молоды, красивы, здоровы и полны сил, как один ответ на все вопросы, наполняют сознание. «Ряд прекрасных изменений милого лица» произошёл, но игнорируется внутренним чувством. Прошлое на основе удовольствия присутствует и во всех идеологических скрепах. Правящая сила советского общества, например, зафиксировала в монументальной пропаганде декрет о земле, но, почему-то, не коллективизацию… Много примеров идеологических скреп приводит Екатерина Шульман. Они существуют по всему миру и во все времена.
В детстве я знал, что Ленин умер 22 января, потому что сам родился в этот день. В гостях у Сашки Атаманского даже утверждал его бабке, что как только Ленин умер, так я и родился… Бабка прижала меня. Тогда я впервые понял, что есть даль времени, но переживать по этому поводу мой простой детский разум никак не стал… Ещё на видном месте в детском саду висела картина, где Ленин стоит в окружении маленьких детей, дети были одеты, как мы. А он жил, вроде бы, давно. От взрослых Ленин верхней одеждой тоже не отличался, такое пальто могло быть современным. И я запутался: картина выглядела, написанной с натуры. В общем, я стал сомневаться в смерти Ленина. Всё наводило на мысль, что он до сих пор жив. Реалистически выполненная картина + детская доверчивость = удачная манипуляция моим сознанием в сфере мифического времени: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Миф в данном случае состоит в том, что Ленин не умер: – эта неопределённость течения времени стала основой для моей коллективной советской идентичности. При этом правду никто не скрывает: Ленин умер, – но логический закон тождества нарушается, благодаря суггестии: смерть Ленина становится равна его жизни… Когда я выслушал в детском саду, что он ещё и победил всех помещиков и капиталистов, то проникся вообще к нему восторгом. Мне захотелось рассмотреть на картине его мускулы. Ленин имел физическое преимущество перед детьми, но, как взрослый, казался нормален – не богатырь. Я решил поговорить об этом с матерью… Мать оказалась прекрасно осведомлена о Ленине и его делах. Ничего не пришлось ей объяснять, я почувствовал наше единение и спросил во весь голос: Как мог Ленин победить всех помещиков и капиталистов? Тех – целые тысячи, и этих – целые тысячи. Может, он их, хотя бы, по очереди побеждал? Победу по очереди тоже было трудно представить, но это был хоть какой-то ответ. Мать проявила заминку, возникла секундная пауза. За это время в меня внедрилось какое-то опасение, казалось, я подвёл свою мать. Казалось, о Ленине нельзя говорить. Тут я запутался: о Ленине говорили открыто… Нет, я не умолк! Я сам нашёл ответ: «За Ленина были рабочие и крестьяне!». Я с самого начала подозревал это, но ожидал подтверждающих слов от матери. Их пришлось высказывать самому. Мать вроде бы согласилась. Вопрос с мышечной силой Ленина отпал, но общая юбилейность по поводу его победы над помещиками и капиталистами стала мне непонятна. Ещё было непонятно, почему рабочие и крестьяне сами не победили их. Рабочих и крестьян было всё равно больше.
Этот вопрос я уже не задавал матери. Более того, секундное отсутствие звукового сопровождения моим мыслям о Ленине стало отключать в моём сознании проверку информации, касающейся Ленина. Мы живём прекрасно, благодаря Ленину, – стало логично. Что жизнь прекрасна сама по себе, как-то выпадало из поля зрения. В молчании матери тогда возникла некая нулевая интонация, и у меня «вдруг» сложилась реакция на несформулированную опасность – очень полезный социальный навык. Недостаток информации и опыта существует всегда. Этот реакция как-то компенсирует этот недостаток.
Впечатление, что я подвёл свою мать, тогда занырнуло куда-то, и я не делал в дальнейшем попыток высказываться самостоятельно на тему Ленина, просто молча переживал восхищение им. Совесть по отношению к матери оказала воздействие на логику, отключала её в течение какого-то периода жизни в данной теме. Хотя никакой физической боли я не испытал, но чем это не инграмма?
Логика в сознании функционировала, и впечатления, связанные с темой Ленина по смежности, получили сюрреалистическую окраску. Видимо, в эти моменты действовал условный рефлекс, возникший благодаря матери мгновенно. В моё сознание внедрился некий код в течение звуковой паузы в её словах. Эмоция матери сотворила его, сжав в ней единый Голос Бытия, который всегда лжёт. Смысл кода попал в меня телепатически, сошёлся с совестью и сотворил мою советскую идентичность. Это изменение сознания практически осталось мной не замеченным… Ленин связался со всяческим добром, выражаемым коллективно, но с другими историческими деятелями взаимодействовал весьма причудливо. Он был материальный, а они – стеклянные… Бабка однажды сказала: «Ленин да Сталин». Эти имена связывала созвучность. Я ни разу не слышал о Сталине, но немедленно понял, что он связан как-то с Лениным. Бабка ничего больше не добавила: суровая интонация заранее проткнула моё любопытство… Я не обсудил с ней новое имя, но позже спросил у матери: «Сталин был хороший или плохой?». Эта последняя возможность как-то вытекала для меня из полного молчания о нём. Мать сказала, что Сталин был плохой, правда, ушла в себя, что-то скрыв, но мне было достаточно. В целом она подтвердила существование Сталина. Правда, благодать социализма повисла на волоске. Мне стало интересно, как она уцелела, если человек с созвучным Ленину именем был плохой? Он мог её угробить. Логика дрыгала ножками в воздухе, как повешенная за шею, и в моём воображении Сталин немедленно стал, почему-то, стеклянной фигурой. Потом имя Сталина на многие годы ушло из поля зрения и стало повторяться, когда я уже подрос… Семейное предание подтвердило, что мать кое-что скрыла от меня, отвечая о Сталине… Бабе Нюре к слову пришлось рассказать, что мать и тётя Вера рыдали, когда умер Сталин, а лично баба Нюра и слезинки не проронила. Кажется, логика сама отстаивала себя, если в противовес Ленину Сталин стал стеклянной фигурой. Как личность, сквозь которую видно, нанесёт социализму вред?
То же самое повторилось и с прочими деятелями социализма. Я прочёл о Берии в одной из центральных газет большую статью лет в шестнадцать и с изумлением столкнулся с фамилией, звучащей так отталкивающе. Мне показалось, что такого деятеля не могло быть, его имя навевало мутно-прозрачный образ, который было несовместим с благодатью социализма. Мутный и прозрачный и есть несовместимость… но тётя Эля вспомнила охотно частушки: «Берия, Берия, вышел из доверия, товарищ Маленков надавал ему пинков». Мне пришлось заодно поверить и в Маленкова…
Орвелл просто обескураживает: моим родственникам Маленков и Берия не пришлись к слову до моих шестнадцати лет: «несуществующие люди». Такие персонажи должны были обрезать волосок социализма. Я осязал крушение его благодати, но она чудесным образом сохранялась. Нечего и говорить, что Берия и Маленков стали стеклянными фигурами. Впрочем, я плохо их себе представлял, но, когда никакой благодати социализма в моём сознании уже не было, баба Нюра рассказала, как в молодости работала в столовой: там висел портрет Ленина и Троцкого голова к голове, украшенный венком. «Потом Троцкого вынули – остался один Ленин». Я даже помнил, как Троцкий выглядит, но мне всё равно показалось, что рядом с Лениным висела стеклянная фигура… Почему Хрущёв для меня не стеклянный? Этому можно найти только одно объяснение: родственники рассказывали о нём анекдоты… Выраженный смысл, видимо, меняет дело. А логику деформирует смысл который не выражен. Как только он возникает, логика тоже начинает прятаться.
Невыраженный смысл искажает логику, а выраженный становится ложью. Дилемма выглядит не радостно… Невыраженный смысл меня не разрушает до основания, стеклянные образы выводят логику за скобки в ситуации идеологических догм и спасают в мышлении для других случаев. Логика делает образы логоса стеклянными, когда не может справиться с ними. Моя советская идентичность – общезначимый смысл, какая-то жертва с моей стороны «другим», а бенефициаром этой жертвы является дискурс. Логика оказывается более связана с менталитетом.
Уссурийский тигр делает петлю и ложится возле своих следов. Его жертва отождествляет положение дел с отсутствием тигра. Следы не пахнут, «вдруг» он появляется с подветренной стороны: «Нечто, заставляющее мыслить – объект основополагающей встречи. Растёт насилие того, что заставляет мыслить». Мыслить, значит, схватывать, внутреннее чувство преодолевать. Тигр ввёл в него ложную посылку. Некое знание о себе – общее свойство всего живого, – у животных внутреннее чувство есть, иначе бы у тигра не было шансов использовать застой в схватывании. Инстинкт жертвы получил пробоину: думать трудно и долго. Жертва парализована, но, если она спасётся, то, как следствие, и размножится. Это – награда и доказательство способностей. Тигр, который вводит в сознание жертвы ложную посылку, принадлежит к царству зверей. Это у него самого инстинкт такой, – но запущенное в сознании жертвы время представляет собой какой-то жертвенник. С этого жертвенника можно удрать, если случайно повезёт.
Запущенное время течёт в одном направлении, совпадает со стрелой энтропии, разрушения и некой объективности. Средневековый властитель Тимур тоже стремился запустить течение событий в сознании завоёванных народов только в одном направлении, отрубал головы и складывал их в кучу, фабрикуя мутно-прозрачные образы бунта против себя. Тимур стремился отменить у покорённых народов мысль о бунте против себя, время в их сознании запускал в одном направлении: сопротивление Тимуру – не в этой жизни. Он закладывает в покорённых «здравый смысл», который течёт от более дифференцированного к менее дифференцированному: от двух возможностей к одной. И не было становления других мыслей, – только не сопротивляться. У жертв уссурийского тигра условный инстинкт никуда не течёт и срабатывает, по идее, мгновенно. Это время течёт, вторгаясь в него. В безусловный рефлекс время вообще не вторгается. Оно там остановилось ещё в утробе матери. Безусловный рефлекс – отдёргивать руку, прикоснувшись к чему-то твёрдому и горячему – опережающее отражает действительность и обгоняет время. Мы почувствовали только твёрдое, ещё не обожглись, а рука уже отдёрнута. Чувство ожога будет, но позже. Безусловный рефлекс есть зеркальная противоположность мысли, которая сама подвижность, и течёт. Он даже противоположность условного рефлекса, который является каким-то её зачатком. Условный рефлекс тоже сразу является ставшим, думать уже не надо, но время всё равно в него как-то вторгается, если я больше Ленина не воспринимаю, как благое благо. Сам условный рефлекс, вроде бы, не течёт, как мысли текут на его основании, похожим на дедуктивное, но со временем тоже изменяется. Это происходит «вдруг». Таким образом, мы всё равно фиксирует какое-то дискретное течение времени в условном рефлексе, напоминающем собой монолит и непрерывность. Мгновенное становление условного рефлекса имеет подобие и в становлении мыслей, но время в процессе их становления уже осязается. Становление мыслей требует времени, потом они тоже становятся некой дедуктивностью сознания. Становящаяся мысль колеблется в обе стороны, время проходит, но сначала не приносит видимого результата. Мысль ускользает в обе стороны, течёт, но не в единственном направлении. Тёмный предшественник зафиксировал в слове «становление» этот момент времени, похожим на время в инстинкте. Становление имеет смысл чего-то, стоящего на месте, а время колеблется в обе стороны в становлении.
Кроме Тимура, отменить становление чего-то другого в сознании и сразу перейти к инстинкту стремились и в Древнем Риме. Легион, бегущий с поля боя, подвергался децимации, и мысль, чтобы отступить у легионеров становилась «прозрачной». На поле боя был только смысл – сражаться. Думанье в другую сторону не допускалось, приносилось в «жертву». Это – здравый смысл, который стремится от более дифференцированного к менее дифференцированному: от двух возможностей к одной.
Из этого следует, что идентичность может быть навязана. Она находится на уровне инстинктов, а не разума, который только напрасно тарахтит рядышком, преследуя интересы военачальников. Кажется, что человек всё время думает и кем-то становится, когда в сознании тарахтит дискурс. На самом деле, время вместе с дискурсом только проходит.
Однажды я наблюдал на остановке молодую женщину с собакой в наморднике. Маленькая девочка вслух выразила мысль её погладит, но боялась… Женщина подбодрила: «Ну, ты будешь гладить её или нет!?». Девочка справедливо расценила это, как приглашение… к девочке мальчик присоседился – гладить собачку по голове. Та заводила глаза, но вела себя покорно, хотя незнакомые люди лезли в её личную зону. Ей пришлось быть культурней всех, это была идентичность. Какой-то постоянной компонентой идентичности может считаться совесть и Нарцисс, но у собаки это был условный рефлекс подчиняться хозяйке.
По поводу идентичности можно согласиться с социологами: «Это система групповых ценностей, которую человек сознательно разделяет». Разделяемые ценности возбуждают у человека уважение к себе самому, чувство сопричастности и важности, но проблемы Нарцисса, которому приходится врать и приспосабливаться к коллективным ценностям, нас не интересуют… Ещё в идентичность входит возрастная, половая, ролевая, национально-историческая, территориальная и прочая конкретность человека, – а он переедет в другую страну или попадёт в иную социальную страту и забудет свою идентичность. Его условные инстинкты изменятся, он приобретёт новые. С более высоким уровнем возможностей идентичность примиряется с удовольствием. Вряд ли кто-то грустит о своём подневольном детстве, когда слова взрослых окружают сознание множеством табу. Как полагающееся чувство, грусть о детстве сильно преувеличена. Оно сознаётся, как время без стрелы, но этот контур и так всегда с нами, зачем поднимать его в сознание? Вернуться к катанию на велосипеде можно и во взрослом возрасте: качать мышцы ног, поддерживать физический тонус или вытрёпываться. Дети с велосипедом тоже вытрёпываются. То ли взрослые остаются детьми, то ли дети так взрослеют… Но взрослые решают проблемы, которые у них накопились со временем. Это время и есть главная проблема. У детей её просто не может быть. И, если правы социологи, эта грусть – не наша идентичность.
Мы по-прежнему ищем «я», отыскивая начало мышления, а ближе всего к началу мышления безусловные рефлексы. Они, кстати, и проще всех.
Если сознание не контролирует свой уровень, который манипулирует течением времени, то кто его контролирует? Сознание может изменяться. Время всё равно будет стоять в каком-то контуре и течь в других. Между контурами – изменяющимися и неизменными – будет расти напряжение, запускающее смысл, который приходит первым. После того, как условный инстинкт мгновенно возник, время не течёт для него, но информация в сознании накапливается и может инстинкт незаметно отменить. Это тоже будет казаться мгновенно. Не смотря на то, что время для условного инстинкта стоит, его смысл практически не отличается от здравого, по большому счёту являющегося тоже автоматическим. Совесть и Нарцисс также создают автомат из нашего внутреннего мира. Если время является событием на плоскости материи, то рефлексы и эмоции – события на плоскости чего? Это – не материя. Иначе бы они подчинялись времени безусловно.
Отсутствие запаха на следах, головы, сложенные горой у ног Тимура, метаболический вихрь, вращение небесных тел – всё это события, но на разных плоскостях. Время течёт событиями, становится идущим: секунды, минуты, часы… А время становления никуда не течёт, это – прямая линия, которая растягивается в обе стороны, но секунды, минуты, часы проходят. Прямая линия олицетворяет эмоции, ускользающие в обе стороны к внешнему и внутреннему, и прямую линию Делёз считал самым страшным лабиринтом.
Время Хроноса отвечает на вопрос, какой отрезок времени тянулось что-то: существовала клетка, организм, мелодия… Кажется, что и не может быть другого времени, но Надежда на бессмертие отрицает Хронос. Это – самое глубокое представление Нарцисса о себе, его отрицают и инграммы Хаббарда… Время становления скользит по линии Эона. Хронос в лучшем случае отмеряет на ней регулярные случаи, а калибрует прямую линию Эона совершенно неравномерно «вдруг». После «вдруг» время уже не может сомкнуться неразличимо. «Вдруг» опять какой-то «друг», – тёмный предшественник шлёт привычный знак.
Как происходит становление чего-то? Почему настоящее «вдруг» становится прошлым, хотя было актуальным два года или десяток лет подряд и, казалось, так будет вечно… Что-то копилось в вихре событий. «Событие неотделимо от тупиков времени, от простоев. Это даже не простои до и после события, простои в самом событии». (Делёз). Нужно сказать, что прямая линия Эона – это не поступательная линия прогресса. Прогресс тянется в одном направлении. Это – дискурс. В один прекрасный момент он может исчезнуть, как исчезли мамонты.
«Вдруг» – маска случайности. Чем медленнее развивался процесс, тем больше регулярности, как закономерности, в нём могло быть прослежено. Может, речь идёт только о степени нашего осознания… Какие-то процессы протекают незаметно, их результат возникает «вдруг». Может осознание закономерностей так вырасти, что исчезнет случайность? На скользкой дорожке упал прохожий, вас тоже угораздило, не упасть, совсем другое угораздило, но ведь случайность предупредила, что место опасное. Что не осознали? Дело даже обстоит более безнадёжно. Событие становится «злым» или «добрым» по своим последствиям. Это не зависит от осознания наперёд, оно уже является фактом. Но, допустим, вы всё досконально видите наперёд. Жизнь стала лёгкой и весёлой, но в футляре. Что делать в раю, если там нет грехов, тотальная рациональность – в итоге. Это – и есть затемнение. Так что от случайности не денешься никуда. «Вдруг» не променяешь на жизнь в раю или как при коммунизме.
Закономерность без случайности не существует, как ничто без своей противоположности. Этот закон не знает количественного ограничения, только качественное: ничто, значит, ничто, – но тут возникает одно тонкое место, связанное со словоупотреблением…
Бруно Латур использовал словосочетание «трансцендентные законы экономики» в одной своей работе. Такие бессмысленные словосочетания позволяют Нарциссам разделяться со своим непониманием и любоваться этим непониманием, – но наталкивают на некоторые соображения. Трансцендентному (непознаваемому) противостоит имманентное (познаваемое) – т. е. законы. «Трансцендентное» и «трансцендентальное» нельзя путать. В одном случае «непознаваемое», в другом – происхождение знаний или начало мышления. Очевидно, что трансцендентный и имманентный противоположные понятия. В то же время трансцендентное обосновано случайностью: больше ничем обосновано быть не может, иначе превратится в имманентное. А что будет противоположным понятием для случайности, если трансцендентное противоположно имманентному? Имманентность (закономерность) уже не может быть таким понятием. Случайность – основа для трансцендентного, значит, и для имманентного. Она – безусловней этих противоположных понятий одного ряда…
Благодаря регулярным событиям, сознание различает закономерности, но случайные события являются началом этого различения. Событие, по большому счёту, и есть случайность, даже регулярные события. Они могут «вдруг» исчезнуть. Солнце, например, не взойти в Канаде. «Вдруг» – не погрешность разума. События привлекают внимание, его организуют, что-то делают «вдруг» заметным. Это – начало внимания, «вдруг» собирает его в «фокус». Когда моё глупое сознание различило себя в таком же глупом сознании другой особы, мы образовали с ней сходящуюся серию. Это различение было отождествлением, но, по большому счёту, благодаря этому явилось различением, возведённым в квадрат. Закон перехода количества в качество гласит: количество, возведённое в квадрат, является новым качеством.
Случайность не укладывается в рамки пространства и времени. Космос и события на молекулярном уровне подвержены случайности. Время, в которое случайность себя реализует, тоже не имеет размеров. Вселенная со всеми своими закономерностями может «вдруг» исчезнет, в то же время после этого возможна случайность.
Единство необходимости и случайности Гегель называл абсолютной действительностью… Случайность существует, как закономерность, если подчиняется правилу нравственности, в то же время не подчиняется даже собственному правилу, – не иметь никаких правил. В нашем обыденном представлении случайность – что-то досадное, потому что нет правил, но чаще всего своим отсутствием правил случайность задаёт направление процессу.
Случайность – это какие-то пустяки, но пустое – синоним простого.

