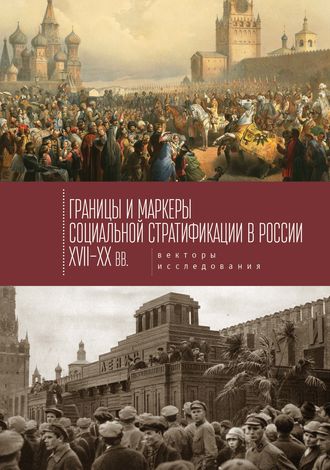
Полная версия
Границы и маркеры социальной стратификации России XVII–XX вв. Векторы исследования
Эрнест Лабрусс старался создать портрет основных классов французского общества в XVII–XIX вв. на основании экономических критериев (уровень доходов, профессиональная деятельность). Такой точке зрения противостоял представитель методической школы Ролан Му-нье, настаивая, что неправомерно говорить о классах применительно к французскому обществу ХVII – ХVIII вв.: это были группы (или сословия), разнящиеся в зависимости от своих социальных функций и престижа (т. е. оценки социального статуса, главным в которой было понятие «достоинства» или «чести»). При наличии разногласий общим было то, что оппоненты оперировали «готовыми» категориями («буржуазия», «дворянство») и исходили из того, что описываемые ими социальные единицы (классы или сословия) существовали реально, а все общество можно и должно структурировать, «разложив по полочкам» на основании критериев социальной стратификации. Среди последних назывались богатство, доходы, происхождение, функции, профессия, семейные связи, власть, стиль жизни, честь/достоинство. Признание множественности критериев стратификации вело к идее многомерной социальной структуры. Однако, как считает Н. Е. Копосов, реализовать ее на тот момент не позволила существовавшая инерция научной задачи создания единой «синтетической социальной иерархии», сводимой либо к классам, либо к сословиям, что и привело распаду классической социальной истории.
Французская историография признает, что этот подход – классическая социальная история – привнес много знаний[98]. Однако в эпистемологических дискуссиях 1970-х гг., времени, которое Франсуа Бедарида назвал временем пробуждения спящей принцессы-истории[99], уже звучит разочарование в постулатах прежней истории. В преломлении темы стратификации общества важными представляются два критических посыла, которые стали развиваться в рамках новой социальной истории. Они связанны с позицией индивида и синтетическим структурированием общества. Критика гласила, что классическая социальная история не принимала в расчет индивидуальное, изменчивое и иррациональное, отдавая предпочтение истории масс. Индивид не являлся самостоятельным исследовательским предметом. Например, Э. Лабрусс в статье «Как делается Революция?» (1948) отмечал, что революции происходят несмотря на революционеров; над историей работают более глубокие силы, считал историк, которые не осознаются людьми. Таким образом, в исследовательской модели классической социальной истории индивиды – это претекст, не акторы. Самое большее, на что мог рассчитывать индивид, это служить в качестве примера, иллюстрации влияния внешних социальных сил. Логика исторического процесса помещалась вне людей, а общество делилось на категории, которые были конструктами классификаторов-историков.
Они производили на свет «синтетические» категории (демографические, экономические, социальные), которые подкреплялись цифровыми данными и представлялись как реально существовавшие однородные группы. Минималистское обращение с индивидом вело к созданию социально-профессиональных классификаций посредством изучения экономических реалий, которые обусловливают менталитет. В качестве примера можно вспомнить попытку Аделин Домар и Франсуа Фюре[100] в 1960-е гг. создать для Франции XVIII–XIX вв. социопрофессиональный кодекс, разделив население «на ограниченное количество категорий, каждая из которых будет характеризоваться относительной социальной гомогенностью»[101]. Однако в ходе работы выделенных групп оказалось так много, что они нуждались в создании агрегированных порядков. И когда от дробных классификаций нужно было переходить к повествованию, историки отбрасывали ими же сконструированные категории.
Подобное «линейное обобщение», как подчеркивал Бернар Лепти, вело к «подгонке» социальных категорий под первоначальные установки исследования в отношении социальных делений и иерархий и к созданию «организованных» классификаций и реифицированных аналитических категорий, не позволявших увидеть исторический процесс[102]. Кроме конструирования объекта исследования, ставилась проблема его интерпретации историком, который, выбирая способы описания предмета исследования, ориентируется на собственный «словарь»[103]. В общем, под сомнение была поставлена способность классической социальной истории учитывать реальность («бедная идея реального», как об этом говорил Мишель Фуко[104]).
Одним из первых с критикой социографического подхода выступил в конце 1960-х гг. Жан-Клод Перро[105], призывая к изучению не столько структур, сколько социальных отношений, в которые вступают люди. Тогда же Морис Агюлон предложил концепцию социального ключа – основных знаковых моментов, объединяющих группу. В наметившемся повороте французской истории в сторону активной роли в историческом процессе социальных субъектов заметно влияние работ Раймона Будона (который настаивал на объяснении социальных фактов через индивидуума и тот смысл, которым он наделяет свои действия), Алена Турена (который разработал теорию общества как явления, построенного вокруг социального актора и социальных движений) и Пьера Бурдьё (с его основными понятиями агента как основного «действующего лица» общества, габитуса как принципа действия агентов, поля как пространства фундаментальной социальной борьбы, капитала как ресурса в социальном поле и символического насилия как главного механизма утверждения господства).
В начале 1990-х гг., времени всеобщего увлечения французских историков социологическими концептами и методами, почитаемые историками представители «новой социологии» Люк Болтански и Лоран Тевено отказываются рассматривать классы или социальные группы, созданные на основе официальной статистики «классической» социологии, в пользу анализа людей в «ситуации», т. е. человеческих действий, в которых акторы, включенные в межличностный обмен, мобилизуют свои возможности для оправдания своих позиций[106]. Исходя из такого понимания, различные социальные группировки предстают как относительно временные конструкции, как результат активного соглашения и применения мобилизационных ресурсов акторов. При таком подходе можно увидеть, как процесс признания социальными субъектами значимости общественно-политической реальности организует практики, социальные институты и конкретные конфигурации межличностных отношений.
Окончательный разрыв с дюркгеймовской социологией и прежней социальной историей ознаменовал вышедший в 1995 г. под редакцией Бернара Лепти коллективный труд с подзаголовком «Другая социальная история»[107]. Авторы книги призывали при анализе общества концентрироваться на личности, на понятиях «взаимодействия» и «социальных соглашений», на «вопросах идентичности и социальных связей». Тогда же Франсуа Досс констатировал появление новой исторической парадигмы, одной из центральных идей которой является возвращение субъекта[108].
Вопреки предшествующим взглядам основные социальные категории – классы, группы, общности или общества – теперь не представляются априори заданными. Это относится и к принадлежности индивида к какому-либо статусу как точно фиксированному месту в социальной иерархии. «Люди не находятся в социальных категориях, как ручки в коробках», – говорил от этом Б. Лепти[109]. Положение индивида или группы – это результат многочисленных договоренностей, обусловленных стечением различных обстоятельств (или «конфигураций», пользуясь термином Н. Элиаса). Понятия «сословие» или «социальная группа» продолжают использоваться, но как категории социальной практики, которую актор пытается учитывать в своей повседневной жизни.
Таким образом, исследовательский интерес новой социальной истории Франции сместился на действия людей (парадигма l’action). Индивид отныне предстает как актор, а не как пассивный приемник структурного давления долговременно существующих социальных институтов. При этом новая социальная история не утверждает, что люди произвольно делают историю так, как они хотят, нет, история – это равнодействующая сила. Принятие в расчет действия и индивидуального измерения не отрицает социальную историю в дюркгеймовском понимании социального. Но предполагаются другие ее истоки, идущие от самого человека. В этом смысле для приверженцев новой социальной истории Франции близка «формула» писателя Жоржа Бернаноса: «Мы не подвергаемся будущему, мы его делаем»[110].
На рубеже XX–XXI вв. французские историки оказывают все меньшее доверие глобальным объяснительным теориям (функционализм, структурализм, марксизм, социальный детерминизм и пр.). Отказ от больших макроисследовательских подходов стал еще более очевиден в новом тысячелетии, характерной тенденцией которого, как отмечал Франсуа Досс, стала гуманизация наук о человеке[111]. Историки отталкиваются от понимания, что различные уровни социального опыта сосуществуют одновременно и переплетаются друг с другом. Формы опытов не иерархизированы, нет маленькой истории маленького человека или большой истории правящих кругов, но есть история их взаимодействия. Каждый актор живет в нескольких мирах социального опыта – класс, гендер, профессия, ассоциация, семья, которые не являются взаимоисключающими. Действительность формируется в конкретной ситуации социального взаимодействия между отдельными людьми либо между группами. Взаимоотношения, сходства, общительность, дружба, ассоциации – все эти объекты относятся к индивиду и индивидуальному, но в то же время они соответствуют нормам, коллективным договорам. Индивид не является изобретателем этих норм, он их выбирает, изменяет, приспосабливается к ним в пределах коллективных правил. Отсюда концепт «рациональности – ограниченности»: индивид не определен социальным, он ограничен социальным. «Ограниченная рациональность» (понятие, пришедшее от социологов Лорана Тевено и Люка Болтански) – это и есть пространство действия индивида.
Поле структур кажется уже устаревшим. Для новой социальной истории Франции одним из главных слов стало interaction – взаимодействие; общество воспринимается как сложная система интеракций. Структуры превратились в подвижные практики, которые обмениваются своими составляющими в пространстве и во времени. Современного французского историка занимает вопрос: что организует социальную группу? Каковы нормы и мотивы, интересы и ценности, которые вынуждают людей быть вместе или двигаться в другие группы? Что акторы хотят и могут сделать? Как передается логика совместных действий? Как люди сами определяют свою и чужие социальные позиции?
Социальная группа предстает как сложный институт, состоящий из множества самоорганизующихся субъектов, которые в процессе согласий и разногласий создают этот институт как унию (возможно, временную), основанную на самосознании, по отношению к другим. Такое понимание прослеживается, например, в работе Жан-Франсуа Сири-нелли «История правых во Франции»[112]. Чтобы это понять, важен учет персональных стратегий, языковых практик и культурных кодов. Вслед за социологами историки стали оперировать понятием «сети́» как более гибкого образования, позволяющего изучать объединения людей и их взаимосвязи и взаимодействия, в отличие от жесткого «каркаса» социальных структур.
Изучение сетей потребовало изменения масштаба. От изучения региона историки перешли к изучению отдельной деревни, историки религии, занимавшиеся исследованием епархии, обратились к исследованию прихода и т. д. Для французских историков в этой области ориентирами служили исследовательские практики итальянской микро-истории – работы Карло Гинзбурга, Эдоардо Гренди, Джованни Леви, которые сосредоточили внимание на индивидуальных стратегиях, интерактивности, на сложности целей и характере коллективных репрезентаций. Отказавшись от изучения классов, французские историки обратились к разным по своей природе группам или категориям. Изучались группы, складывающиеся стихийно или в результате действия социального законодательства; группы, которые воплощали собой господство или маргинальность. В качестве примеров можно привести работы о бродягах (Морис Агюлон), безработных (Кристиан Топалов), евреях (Жан Эстеб), ветеранах войн (Антуан Про), мигрантах и иммигрантах (Жерар Нуарель и Нэнси Грин) и др.[113] В новом качестве были реабилитированы социопрофессиональные категории: не как стремление категоризировать все общество на основании профессиональной принадлежности индивида, но как истории отдельных профессий с размышлениями о способах формирования различных социальных идентичностей. Авторы обратились к историям нотариусов и прокуроров, военнослужащих, врачей, инженеров (Андре Грелон), интеллектуалов (Жан-Франсуа Сиринелли)[114]. Историки обращались к забытым категориям, как, например, история женщин. Мишель Перро в предисловии к книге «Возможна ли история женщин?» (1985)[115] подчеркивала, что экономическая и социальная истории, развитию которых дали толчок «Анналы», не учитывали деление полов, и выражала надежду, что новое направление (или изменение парадигмы) в социальных науках будет благоприятствовать написанию истории женщин[116].
Изучая индивидуальное в судьбе человека или группы, изучая каждодневную микрореальность большой сущности, исследовательский горизонт перемещается с вопроса «почему?» к вопросу «как?»: как на уровне индивидуального происходит конструирование социального пространства, присвоение и освоение социального места? Это вопрос о социальной идентичности, самоидентификации. Вопросы, которые анимируют современную французскую микроисторию: как понять общество и его структуру через доступ к смыслам, которые социальные акторы сообщают в своих действиях? Выбор индивидуального здесь не считается несовместимым с социальным: следуя нити собственной судьбы (судьбы отдельного человека или группы людей), индивид осваивает множество пространств и сетей социальных отношений, в которые он вписывается. При этом заметен отход от концепта «менталитет» (как чего-то неуловимого, базирующегося в подсознании) в сторону представлений как основы непосредственной человеческой деятельности.
2.2. Социальные категории «класс» и «сословие» в зарубежной историографии: необходимая условность или адекватный инструмент описания исторической реальности?
Общие подходы к изучению социума как системной совокупности организованных групп, структур и индивидов, эволюцию которых (подходов) мы кратко рассмотрели на примере французской историографии, неизбежно подвигали историков к разработке генерализирующих понятий, если можно так сказать, «второго уровня». В их ряду чрезвычайно важное место занимали и занимают вопросы, связанные с поиском адекватного языка описания социальных структур изучаемых обществ, с выработкой критериев, границ и маркеров социальных стратификаций.
Проблема стратификации общества – исследовательское поле, которое предоставляет широкие возможности для различных вариаций на тему структуры социума, критериев социального ранжирования, создания обобщенных и дробных классификаций. Признание «сетевого» устройства общества, к которому на сегодняшний день пришли, разумеется, не только французские историки[117], не избавляет от соблазна или перспективы конструирования емких социальных категорий. История гуманитарного знания раз за разом услужливо подсказывает: «Не надо ломиться в открытую дверь; такие категории давно существуют, их имена: классы и сословия». В самом деле, какие бы манифесты ни писались социологами и социальными историками, эта пара не торопится покинуть обжитое пространство социального дискурса и, видимо, имеет на то основания. Как складываются отношения современной историографии с этими понятиями и почему они демонстрируют такую удивительную живучесть? Ответы на эти вопросы требуют обращения к новейшим исследовательским практикам и выявлению той гаммы коннотаций, которая сопровождает понятия «класс» и «сословие».
Понятие «класс», оказавшееся явно не в чести (и по понятным причинам) у ряда сегодняшних российских историков, вполне активно используется в трудах западных специалистов. В то время как многие историки сосредоточили свои эмпирические исследования вокруг актора, его специфических траекторий, личных стратегий и опыта мобильности, социологи возвращались к понятию «социальный класс». В качестве примера можно привести коллективные труды, вышедшие в середине 2000-х гг., – «Что остается от социальных классов?» или «Возвращение социальных классов: неравенство, господство, конфликты» (переиздан с некоторыми дополнениями в 2015 г.)[118]. Редакторы первой из перечисленных работ Жан-Ноэль Шопар и Клод Мартен называют ситуацию отхода от классового анализа «социологической амнезией» и настаивают, что рано говорить о конце классов, о несостоятельности применения этого термина к изучению общества, но необходимо изменение рамок и инструментов анализа. Нужно отойти от идеи противостояния между работодателем и рабочим классом как центральной и распространить классовый анализ и на другие страты. Авторы второй работы (под редакцией Поля Буффартика) придерживаются позиции, что понятия «класс» и «классовые отношения», «класс в себе» и «класс для себя» оказываются довольно плодотворными, несмотря на «дисквалификацию» марксизма. Естественно, работы социологов направлены на современное общество. Историки не говорят столь открыто о ценности классового анализа для исторических исследований, но и не избегают этого понятия в своих исследованиях.
Если обратиться к историографии по социальной истории Западной Европы, можно увидеть достаточно разнообразное употребление концепта «класс» и придание ему сложного глубокого значения. Так, британский исследователь П. Джойс, изучая класс рабочих промышленных районов Северной Англии в XIX в., подчеркивает, что его интересуют не столько экономические аспекты, сколько политические и художественные представления и репрезентации социальных установок. По его мнению, класс – это сложный социальный конструкт, создаваемый различными историческими акторами по-разному. П. Джойс указывает на необходимость изучения «классового языка», который проявляется, в частности, в художественных произведениях, а также подчеркивает важность проблем самоидентификации, на которую влияли политика, искусство, религия[119].
Свою актуальность термин не теряет и в контексте изучения так называемого «среднего класса» – теме, традиционной для исследований западноевропейской социальной истории. Концептуальными представляются наблюдения Дж. Сида в его исследовании о природе среднего класса в Англии конца XVIII – начала XIX в. В первую очередь он ставит вопрос о неоднозначности самого понятия «средний класс», прослеживая историю его употребления. Одним из главных тезисов автора является вывод о неоднородности той социальной страты, которую принято считать «средним классом». Во-первых, историк указывает на существовавшие различия между его представителями в Северной и Южной Англии, а также на особую ситуацию, характерную для положения среднего класса в Лондоне. Во-вторых, Дж. Сид отмечает разные уровни внутри среднего класса: от крупных промышленников до мелких торговцев, причем границы между ними были очень подвижны и зависели от степени сотрудничества, культурной и политической кооперации. Неоднозначен и вопрос о групповой идентичности. Автор указывает на сложность идентификации представителей среднего класса в источниках, поскольку один человек мог быть одновременно адвокатом, промышленником и землевладельцем (что показано на конкретном примере). Говоря о маркерах принадлежности к среднему классу, Дж. Сид называет доход, реализованный в потреблении. К 1830 г. укрепилось единое мнение, что 300 фунтов стерлингов – это минимальный доход для поддержания уровня жизни «среднего класса»[120].
Вопрос об социальной идентичности и маркерах стратификации представлен и в исследовании Г. Камена, посвященном европейскому обществу раннего Нового времени. В предисловии заявлено, что центральной темой работы является изучение изменений в европейском обществе в течение двухвекового периода – с конца XV в. до первых десятилетий XVIII в. Однако в силу того, что в реальности «европейского общества» не существовало, данная монография рассматривает скорее некоторые общие черты, наблюдаемые в ряде разных контекстов внутри европейского пространства. Г. Камен концентрирует внимание на двух основных аспектах: базовых социальных структурах Европы в исследуемый период и изменениях в социальных отношениях. В качестве «базовых идентичностей» историк выделяет сельскую общину и городское сообщество. Соответственно такому разделению самоидентификация индивидов выражалась через принадлежность к общине или к городскому сообществу, а ее важными компонентами считались понятия «соседства» и «родного города»[121]. Обращаясь к характеристике элитных групп общества, автор разделяет «правящие элиты» и «средние элиты» (middle elite) и акцентирует внимание на патрон-клиентских отношениях в качестве отличительной черты, присущей статусному рангу правящей элиты. К средним элитам Г. Камен относит городские и сельские элиты. У их представителей не было особой этики, как у аристократии, но они обладали ясной ценностной моделью, которая определяла их поведение и устремления. С этой точки зрения вместе их связывали общие ценности и общие контексты, например, владение собственностью или принадлежность к определенной профессии. Г. Камен считает, что, несмотря на то, что средний класс сложно оценить с точки зрения материального положения и статуса, существуют твердые основания для определения его идентичности через культуру повседневности, образ жизни. Именно поэтому материальный комфорт стал внешним выражением твердой социальной позиции среднего класса[122].
Сходную картину можно наблюдать и в работах западных историков, посвященных изучению социальной истории Российской империи. Та же тема «поиска» среднего класса в России, выявления причин его отсутствия или слабости и упадка неизбежно приводит авторов к оперированию понятием «класс» как социальной категорией.
Так, например, Чарльз Тимберлейк, рассуждая о средних классах в поздней царской России, утверждает, что к концу XIX в. процессы индустриализации и соответствующего разделения труда породили формирование определенных групп среднего класса, выполнявших те же функции, что их аналоги в Западной Европе. Однако государственная политика, поощряя вертикальную социальную мобильность, препятствовала горизонтальной общественной интеграции. Правительство, по мнению исследователя, не желало допускать ни географической интеграции, ни интеграции между разрозненными группами внутри одной социальной страты. Законодательство препятствовало созданию автономных профессиональных и торгово-промышленных организаций. Вместо того, чтобы строить новые социальные и политические институты, сегменты русского среднего класса вместе с царской бюрократией принимали участие в модифицировании системы сословий, удовлетворявшей самодержавие, чтобы подготовить себе ниши в ней. В результате этого создавался средний класс, облаченный в костюм дворянина. Чертами русского среднего класса были, во-первых, разрозненность, во-вторых, «сборный» характер – в данный класс входили представители разных сословий. В конечном итоге, когда самосознание среднего класса еще только зарождалось, большевистская революция смела институты и ассоциации, в которых он начал появляться[123].
Исследованию профессий и профессионализации в России как социального явления посвящен коллективный труд, в самом названии которого звучит мысль о «потерянном» среднем классе в России: «Russia’s Missing Middle Class: the Professionsin Russian History». Редактор и один из авторов работы Г. Бальцер отмечает, что в пореформенной России и Советском Союзе профессиональные специалисты являлись крупнейшим компонентом зарождавшегося среднего класса. До 1917 г. число специалистов стремительно росло, и они играли важную роль в политическом процессе, однако социальная структура, основанная на сословном делении, и расколы, пронизывавшие идентичности специалистов, препятствовали их согласованной политической активности. Проблемное поле данного исследования охватывало историю нескольких профессиональных групп: инженеров, учителей и профессоров, юристов и медиков. При этом авторы статей постоянно сталкиваются с тем, о чем шла речь в упомянутой статье Ч. Тимберлейка, а именно с множеством свидетельств того, как российское правительство отказывалось санкционировать национальные организации профессионалов (специалистов) или не разрешало проведение конгрессов и других встреч[124].
Оперирование термином «класс» применительно к различным аспектам российской истории можно легко обнаружить и в других исследованиях западных специалистов. Социолог М. Баррэдж, строящий свое исследование на материалах по истории обществ Франции, Англии, России и США, в качестве стратификационной единицы использует понятие «класс» применительно к различным российским социальным категориям, в том числе дворянству и крестьянству. Он подчеркивает высокую степень стремления государства контролировать и управлять стратификацией общества царской России. Особое внимание М. Баррэдж уделяет чиновничеству, пытаясь понять, являлось ли оно особым классом, сословием или чем-то еще (приводя точки зрения на этот счет Марка Раева, Ричарда Пайпса и др.)[125]. Э. Виртшафтер в некоторых случаях использует термин «класс» в своей монографии «Social identity in imperial Russia» (в частности, в главе «Правящие классы и служилые элиты»)[126].









