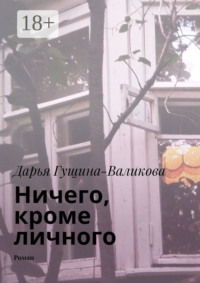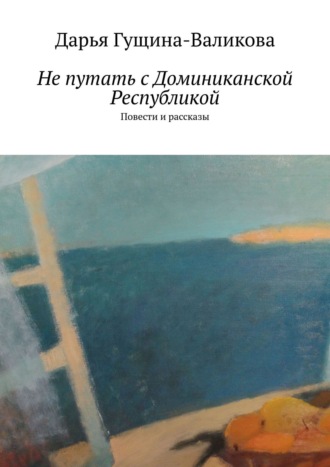
Полная версия
Не путать с Доминиканской Республикой. Повести и рассказы
– Доминиканская Республика? – испуганно спросила Вера. Давненько её сердце не колотилось так, как в эту минуту.
– Ну да, – ответила Светка. – Жара сволочная! Да и в Хьюстоне, между прочим…
– Постой, – почти умоляюще продолжила Вера, – там ведь все говорят по-испански, да? А столица – Санто-Доминго, так?!
– Да нет, вроде, – озадачилась на миг Светка. – По-моему, там по-английски. Или – по-французски?
– Да не Доминика же это?!!!
– Я и говорю, Доминика.
– Розо – есть там такой город?
– Понятия не имею, – отрезала Светка, недовольная, что к ней пристают с такими пустяками.
Она же говорит – всего три дня и пробыли. У этого делового там какой-то бизнес, что ли. Он время зря не теряет. Ну, и они тоже с Галкой время зря не теряли – перепились там с ещё тремя ребятами местным ромом, можно сказать, по чёрному, – пусть никто не говорит, что американцы пить не умеют!
– Здорово! А купались? – спросила Нинка.
Да сходили один раз на океан – ночью, при луне, датые, Питер, трезвенник, всё их из воды гонял – боялся, потонут. А днём, при жаре, неохота было. Днём они из бассейна не вылезали – большой такой при доме бассейн, туда переносной телефон кидают, и ребята прямо из воды с Лондоном трепались, представляете?
– Так вы в доме и торчали? И ни одного аборигена даже не видели? – безразличным тоном осведомилась Вера.
Да ездили мимо какие-то негры на мотороллерах. Там вообще глушь, один только рядом городишко с аэропортом… Какой? Мари… Марен…
– Мариго, – твёрдо поправила Вера. Сердце у неё уже не колотилось, а
медленно, медленно куда-то опускалось…
– Точно, Мариго! А ты откуда знаешь? – удивилась Светка.
– Да она у нас всё знает, – вмешалась, наконец, Марья Петровна. – Ты лучше расскажи, куртку-то купила? А эта сумка – тоже из Америки?
Вечером ей позвонил королевич. Он за эти годы успел поработать в какой-то газетке и уйти из неё, жениться и развестись, тиснуть пару статеек в один журнал и быть изруганным за них в другом, – и вот с чего-то теперь повадился позванивать ей время от времени, просто так, новости рассказать, на жизнь пожаловаться и об успехах сообщить. На сей раз начал с того, что в Москве открывается Народный университет, где обещают чуть ли не оксфордское преподавание, и что сам он уже решил изучать богословие и политологию, и ей советует тоже записаться.
– Мне почему-то кажется, что у тебя есть мозги, – сказал он. – Давай, получишь настоящий диплом – по филологии, скажем, – чего зря-то болтаться?
– Это очень мило с твоей стороны, что кажется, – сказала она. – Только на что он мне?
– На что? Так и собираешься, значит, всю жизнь в своём архиве просидеть? За сто тридцать?! А дипломы эти, между прочим, будут котироваться. Они даже хотят устроить международную комиссию – сдаёшь ей экзамены и едешь работать, где нравится.
– Хоть в Новую Зеландию?
– Хоть в Новую Зеландию. Если возьмут. А ты что, туда хочешь?
– Да нет, – сказала Вера, – я хочу на Доминику.
Королевич Елисей был юношей грамотным.
– Постой, – сказал он, – но это же – Трухильо, унитазы из чистого золота?
– Не путай, – сказала Вера, – с Доминиканской Республикой. Южнее бери.
– Да? И чего там такое? Чем же славится тот край?
– Ну, например, лаймами, – ответила Вера. – Это такой вид цитрусовых. Из них давят сок…
– Знаю, – сказал грамотный юноша, – капиталисты с алкоголем употребляют. Но всё равно, сдаётся мне – это не Рио-де-Жанейро!
– Это не Рио-де-Жанейро, – согласилась Вера. – Ездят какие-то негры на мотороллерах, подумаешь. Ну ладно, ты меня извини, у меня тут это… чайник выкипает.
Она положила трубку и включила телевизор. Голубенький мальчик заметался по экрану, выкрикивая в микрофон какие-то ничтожные слова столь горестно и пронзительно, что Вера его даже инстинктивно пожалела. И то сказать: жалеть постоянно только себя – занятие невыносимое. Вон ведь сколько кругом несчастных – и всяк по-своему. Она убавила звук и побрела на кухню – может, и впрямь закипел?
1 9 9 0 г.
Свой Адриан
Маленькая повесть
В то время у меня было много
дивных знакомых, исполненных
добра и зла.
М. Спарк
– С уважением, А. Сергеев, – произносит мой работодатель Адриан
Сергеевич Сергеев и удовлетворённо отваливается на спинку кресла.
Свою квартиру-кабинет он называет мастерской; впрочем, это помещение на чердаке старого многоэтажного дома близ Садового кольца раньше действительно было мастерской художника. После него тут остался придвинутый к окнам длинный широкий верстак, который Сергеев использует вместо письменного стола.
Я сижу за этим же верстаком, через стопу папок от него. Машинка югославская, очень удобная, почти бесшумная. Работать на ней вообще-то одно удовольствие; дома у меня древняя «Олимпия» без буквы ё и твёрдого знака, и стук её слышат соседи за стенкой.
– Так, последнее, что ли? – осведомляется он. – О чём?
Тянется за очками (одевает только при чтении) и пробегает двойной тетрадный листок, неровно исписанный стариковским почерком. Сверху, с простенка между окон, на присутствующих взирает его кумир Папа Хэм. Другой кумир – Маяковский – смотрит тяжёлым взглядом из-под оргстекла на верстаке, до подбородка придавленный Большим энциклопедическим словарём.
– А, ну да, это ведь наш, смоленский, – говорит Сергеев, выразительно взглянув на меня – мол, тебе должно быть приятно, корни, всё же… И без раздумий начинает диктовать:
«Уважаемый товарищ Николаев! Рад услышать, что моя проза вызывает у Вас, как Вы пишете, постоянный интерес и повышенное внимание. Приятно также, что некоторые мои размышления о проблемах мировой экологии оказались созвучны Вашим. Не могу только согласиться с тем, как Вы трактуете то место в романе, где мой герой, находясь на ферме в Род-Айленде и вспоминая родную, так же, как вам и мне, Смоленщину, делает некоторые сравнения не в пользу последней. Вы упрекаете меня в отсутствии настоящего патриотизма. Между тем, не мне надо напоминать о заслугах нашего края, о его уникальном наследии и бесценном вкладе в историю государства Российского. И, разумеется, я не подвергаю сомнению (наоборот, всегда пытаюсь осмыслить!) наличие трагических противоречий в жизни американского общества. Но речь идёт как раз о тех сторонах его жизни, где много не только можно, но и необходимо брать на вооружение всем нам, и жителям нашей малой Родины тоже. Ведь сколько ещё на ней, – и Вы не можете не признать этого! – явлений, которые составляют отнюдь не гордость нашу… Не вижу также причины, отчего бы моему герою, занятому проблемами взаимопонимания и взаимопомощи разных народов, их свободного развития и истинного прогресса, не восхищаться и не радоваться достижениям трудолюбивого американского народа, в частности…»
Да уж, это он умеет – отвечать на заведомый вздор терпеливо, обстоятельно, без траты драгоценных эмоций… Солидно и убедительно. Не отнять. Ребята часто мне говорят: «Твой, конечно, никакой не писатель, но вчера в „Литературке“ (вариант – „Тогда на пленуме“) это он хорошо сказал…».
– С наилучшими пожеланиями, А. Сергеев, – заключает «мой», додиктовав до конца. – Число не забудь.
Он довольно страшон на вид: обрюзгший мужик под пятьдесят, на голове залысины, физиономия заросла дремучим волосом. Ему самому, кажется, собственная внешность представляется свирепо мужественной, производящей на дам внушительное впечатление. И как ни странно, насчёт многих из них тут он не ошибается.
Он облачён в домашнюю пижаму из синего вельвета. Поверх – безрукавка на меху: вторая половина апреля, в Москве уже сухо, но холодно, и в домах тоже.
– Эта принцесса забыла взять остальные на Суворовском, – произносит он мрачно, роясь в своих папках. – Ты сходи-ка туда, забери их, когда уеду. И сама там разберись – ответь, на какие можно.
Принцесса – это его единственная дочь Катька. Она сейчас в Софии, в командировке (бывают, видать, и такие у корреспондентов московской молодёжной газеты), а на Суворовском бульваре живёт Катькина мать, его бывшая жена. Бывшая – де-факто, они уже лет пятнадцать вместе не живут, но официально почему-то так и не разведены, и он по прежнему прописан у неё. Туда-то и идут письма читателей, что находят его адрес в «Справочнике Союза писателей СССР». (Те же, кому сей справочник неведом, пишут на адреса Союза и Московской писательской организации, издательств и редколлегий толстых журналов, и периодически забирать их оттуда также входит в мои обязанности.)
– Хорошо. – Я начинаю собирать свежеотпечатанные ответы, на каждом из которых он ставит свою размашистую.
К письмам он относится чрезвычайно серьёзно, отвечает на все без исключения, какую бы чушь ему не писали. Только на некоторые доверяется отвечать мне: если, скажем, некто просит сообщить, где и когда выходили все нетленные произведения властителя его дум (нет бы самому дойти до библиотеки!), или кто-нибудь страстно вопрошает – скоро ли, наконец, будет напечатана очередная часть задуманной трилогии?..
– Я больше не нужна?
– Будь добра, свари-ка кофе, если не торопишься, – отрывисто говорит он, листая рукопись.
Я не тороплюсь, потому иду на кухню – через маленькую комнатку, где на тахте лежит развёрстый, наполовину заполненный чемодан: послезавтра Сергеев летит в Африку, на какой-то конгресс.
Когда я возвращаюсь с чашкой, он уже с трудом отрывается от работы.
– Может, помочь собраться? – из вежливости осведомляюсь я на прощанье.
– А сходи-ка купи зубной пасты – с фтором, если будет. Не в Америку всё ж собрался!..
– Пасту и мыло я ещё в субботу принесла. И «Явы» целый блок – на кухне.
– Да? А я и забыл! Ну, отлично. – Он окидывает меня критическим взором и ворчливо спрашивает: – Тебе-то чего привезти? Записала бы, что ли, размеры, – вечно я про вас всё сам должен помнить!
– Спасибо, ничего не надо.
– Ничего не надо! А в штанах, смотрю, одних и тех же целый год…
– Мне так нравится.
– Нравится, – с несколько утрированным неодобрением ворчит Сергеев. – Им, видите ли, нравится или не нравится…
Им – это, надо понимать, мне, Катьке и прочей нынешней мелкоте, такой ленивой и инертной, когда дело касается важных вещей, и такой вздорной и упорной в отстаивании своих бредовых узколичных представлений. Он продолжает по инерции чего-то ворчать, но мыслями, видно, уже далеко.
– Ну, до свидания, счастливого пути! – говорю я на это.
– Чего там, двадцать третьего вернусь! – Он даже поднимается проводить меня до двери. – Начну тогда правку – самая работа пойдёт! А ты давай, занимайся, нечего болтаться…
Дав последнее наставление, он возвращается к своему почти готовому роману. Действие в нём, как и во всех предыдущих, разворачивается главным образом за границей – в Европе и Америке; ну, может быть, пара глав будет отведена Японии или даже Австралии. Герои в основном те же – чуть не дюжина советских дипломатов, атташе, журналистов-международников, представителей внешнеторговых фирм и проч. Каждый из них почти непременно что-нибудь пишет: роман, мемуары, серию очерков или пространные письма своему потомству; в нескончаемых диалогах и монологах философски обсуждает происходящее в мире и до ужаса мечтает очутиться вдруг на родной Смоленщине (Рязанщине, Тамбовщине, Подмосковье…). Все они, как правило, скреплены дружескими либо родственными узами; наличествуют даже целые династии – когда, скажем, дед, который в позапрошлом романе был послом во время войны, ныне даёт наставления внуку, отправляющемуся в ту же самую страну в качестве журналиста…
Роман этот, как и все остальные, будет прямо-таки по швам трещать от обилия примет времени. Лет через сто сергеевские произведения смело можно будет назвать энциклопедией быта определённой части человечества второй половины ХХ века. По ним можно будет с определённой точностью узнать, каким образом зарабатывал на жизнь начинающий канадский писатель, во что одевались сотрудники знаменитой лондонской фирмы во время работы и после неё, из чего состоял завтрак американской звезды эстрады, страдающей гипертонией, и как справлялся со своими половыми проблемами престарелый западноберлинский банкир.
Будет там и про московскую квартиру нашего второго секретаря посольства в Бельгии, и про скандально известную спецшколу, где обучаются дети видного режиссёра, и о том, с какими мытарствами приходится добывать для своей собаки лекарство киевскому пенсионеру, который, невзирая на эти мытарства, принципиально не собирается уезжать в Израиль к брату-бизнесмену…
Держу пари, что он снова не обойдёт стороной ни одну из животрепещущих проблем. Герои нового романа письменно или устно, обстоятельно либо вскользь коснутся прогнозов эпидемии СПИДа, исхода очередного матча Карпов – Каспаров, того, нужна ли многопартийность СССР и достоин ли Бродский Нобелевской премии. Все точки над «i» будут расставлены твёрдо, так что консервативные критики могут не беспокоиться об отсутствии чёткой авторской позиции.
– А что, я люблю читать Сергеева! – демонстративно заявила на днях моя тётка в ответ на такие нападки. – Почему мне должно быть стыдно в этом признаться? Отчего это одним можно любить детективы (вспомни, сколько великих людей признавались!..), другим – фантастику или каких-нибудь «Безобразных герцогинь»…
– «Безобразная герцогиня» – не из той оперы, – машинально вставила я. – Это – Фейхтвангер.
– Да? И о чём она тогда?
– Ну… о несправедливости.
– Тогда – эту, как её? – графиню де Монсоро или там Анжелику какую-нибудь, – ты понимаешь, о чём я!.. Так почему мне, например, нельзя читать вместо всего этого Сергеева?
– Да на здоровье, кто тебе мешает?
– … по крайней мере, хоть узнаёшь, как там люди живут! Ведь у него ж не как в «Правде». И не понаслышке: сам не просто бывал – жил, работал! Знает, о чём пишет – не то, что все эти…
– Ну разумеется, разумеется…
Я выбираюсь на Садовое, где у поворота на улицу Герцена мне приходит в голову: а не пойти ли прямо сейчас на Суворовский, да и забрать сразу эти дурацкие письма? Трать из-за них потом полдня!
Правда, телефона мадам Сергеевой у меня нет – не догадалась взять, сама виновата. Забыла, как однажды уже посылали туда зачем-то – и как пришлось поцеловать закрытую дверь. И всё же решаюсь рискнуть, поворачиваю и иду пешком через всю улицу Герцена – мне всегда проще прошагать хоть пол Москвы, чем связываться с транспортом. Мрачные прохожие ёжатся и поднимают воротники, мне же от быстрой ходьбы даже жарко.
Войдя в подъезд, поднимаясь на четвёртый этаж. С лифтом я тоже стараюсь не связываться, и в этом моя постыдная тайна: кто боится высоты, кто – крови, а я – замкнутого пространства. На звонок, слава богу, слышатся шаги. В дверях возникает силуэт стройной женщины, которая смотрит на меня со сдержанным интересом.
– Здравствуйте, Анна Фёдоровна. Извините, что без звонка! Я – Марфа Морокова. Ариан…
– Марфенька! – с неожиданной радостью восклицает та и поспешно вводит меня в прихожую. – Заходи, заходи скорее. Это же надо, как выросла – на улице б ни за что не узнала!
– Я только за письмами…
– Нет уж, посиди хоть чуть-чуть, дай я на тебя погляжу.
Я покорно даю себя раздеть и усадить в большой комнате, на очень мягкий диван. Она устраивается рядом в кресле – что называется, хорошо ухоженная, выглядящая куда как моложе своих сорока с лишним. У неё, кажется, тоже плохо топят: она закутана в настоящее, не вязанное пончо – небось, ещё Сергеев привёз ей его из Чили лет пятнадцать назад (он бывал там несколько раз до переворота).
– Хорошенькая, – приходит она к выводу. – Только вот на Наташу не очень похожа, больше на отца. Сколько тебе лет – восемнадцать, девятнадцать?
– Какое! Двадцать уже.
– Так, значит, я тебя целую вечность толком не видала!
Я-то смутно помню её – светловолосую молодую красавицу, смешливую и чуть жеманную, когда наши семьи снимали одну избу летом на Смоленщине. Как ещё всё пыталась привести мои лохмы в божеский вид – а может, это было в другом месте и вовсе не она?..
На стене акварель – любимая адрианова Венеция. В остальном же, в этой комнате с фортепьянами, портьерами и подсвечниками никакого его незримого присутствия не ощущается – выветрился давно и начисто.
– Где ты учишься?
– В Историко-архивном.
– О, прекрасно. На вечернем?
– На заочном.
– Я ведь тут совсем случайно узнала, что ты – у Сергеева. Он хоть не очень тебя загружает?
– Нормально.
Она, слегка помявшись, интимно понижает голос: – Ну, как ты, вообще, теперь?
Я жалко пожимаю плечами: – Маргарита меня пасёт.
– Она замуж не вышла?
– Нет.
– Конечно, теперь ты у неё одна, – вздыхает она, и после некоторого молчания продолжает, не поднимая глаз: – Когда с Наташей это случилось, я была просто раздавлена! Илья – всё-таки другое дело, он всю жизнь себя не берёг – при больном-то сердце! Но она, такая молодая… Действительно, – гром среди ясного неба! Я и на похороны тогда не поехала – чтобы помнить её только живой. Какая она была в юности – тургеневская девушка! И после… Маргарита – совсем другая. Ты прости, тебе это, наверно, тяжело слушать…
– Да нет, что вы, – глупейшим образом бормочу я в ответ.
Она расспрашивает о деталях. Я отвечаю.
– Ты извини меня, ради Бога, – снова повторяет она, и я снова поспешно говорю ей какие-то слова, означающие, что – не за что.
– Да, когда-то мы часто общались. Вы с Катей были совсем маленькими.
И до вас – тоже. Помню, Илья так хотел мальчика – просто ужас, но потом, когда ты чуть-чуть подросла, сказал, что не променяет тебя и на сорок сыновей!
– Ну, ещё бы! – замечаю я без ложной скромности.
Впрочем, такого рода болтовня начинает меня утомлять. Ей-то, женщине без определённых занятий, делиться заветными воспоминаниями – самое оно. Хотела бы я знать, чего она тут поделывает целыми днями? Кажется, до встречи с Сергеевым она училась на зубного врача.
Заметив, что мне уже охота на волю, она вздыхает и отправляется за письмами.
– Всего лишь восемь штук с начала месяца. – Она возвращается, насмешливо морща губы.
– Ничего, – успокаиваю я её, – скоро Катя надорвётся таскать – роман на подходе. – Уловив моём голосе невольную иронию, она бросает на меня внимательный взгляд. – Случайно не знаешь, она ему не звонила из Болгарии?
– Нет. В смысле – не знаю.
Убираю письма в пакет. Она провожает меня в прихожую.
– До свидания, Анна Фёдоровна.
– Ох, Марфута, – она проводит рукой по моим волосам. – Ну, заходи же ещё! – И, спохватившись, вопросительно добавляет: – Может, теперь тебя по-другому как-нибудь надо называть? А то я – как маленькую…
– Да мне без разницы! – кричу я на прощанье, сбегая через две ступеньки.
– Что и говорить, имечко мне дали то ещё. Вряд ли в Москве хоть одно такое сыщется среди моего возрастного контингента. Кое-кого оно прямо-таки умиляет, но у большинства вызывает насмешливое удивление. Додумались, тоже предки. Ну, писал отец эту свою раннюю поэму про Марфу-посадницу, ну, звали так одну из героинь любимого матушкина Гончарова – а ребёнок-то тут, спрашивается, при чём?
Пешком до своих Черёмушек мне не дошагать при всём желании, и я быстро направляюсь к метро – успеть до часа пик.
В почтовом ящике вместе с газетами – конверты. Устала я, надо сказать, сегодня от писем… Отпирая дверь, слышу телефонную трель. Бросив почту на табуретку в прихожей, хватаю трубку. Моя тётка Маргарита. Она случайно оказалась тут, неподалёку от дома, а посему зайдёт сейчас проверить, всё ли у меня в порядке.
Я раздеваюсь, включаю обогреватель и беру первый конверт. Оренбургская область. Видать, Пётр Петрович, старый агроном и отцовский почитатель – больше некому. Так и есть – уже поздравляет с приближающимися майскими праздниками; он всегда делает это загодя, не доверяя почте. Всякие трогательные пожелания завершаются сакраментальным: «Дальнейших успехов Вам в публикации отцовского наследия!». Эх, милый Пётр Петрович! Отец мой «широко известен в узких кругах», но никто из этих самых кругов… Звонок в дверь.
– Полиция нравов! – объявляет Маргарита с порога.
После этого традиционного приветствия она влетает в квартиру подобно шаровой молнии, сходу замечает, что пора включить лампу, не читать в темноте, а вот занавески, по её мнению, надо уже стирать; затем обследует холодильник и делает мне небольшой выговор за то, что я не варю себе суп.
Маргарита – младшая мамина сестра, она старше меня на восемнадцать лет, но мы с ней на ты.
– Сергеев что, уехал?
– Послезавтра. Я у него была сегодня.
– Ну, и чего хорошего сказал на прощанье?
– Штаны мне хотел привезти. – Я тут же спохватываюсь: зачем сказала? – ибо тётка тут же просекает:
– Хотел?
– Ну, я говорю – да не надо…
– Что значит – не надо?!
– Ну ладно, Рит, мои ещё ничего, – умоляюще бормочу я, невольно капитулируя перед её грозно вопрошающим взором. – Главное, с какой стати?..
Тут на меня должен обрушиться шквал – и он обрушивается. Аргументы и факты мне давно известны наизусть: с его миллиардами; было б удивительно, если бы он не спросил; ты ненормальная – сколько стоят джинсы здесь, сколько там и сколько он тебе платит; да для всех это в порядке вещей, и так далее, и тому…
Я молчу – возражать бессмысленно. И прежде всего потому, что – беру ведь, беру всё это барахло, что перепадает… А всё мой жалкий ничтожный характер!
Наконец она отправляется в ванную покурить. Я беру в руки другой конверт – большой, белый, с печатями. Всё с ним мне ясно, и можно было бы не торопиться его вскрывать, – но я машинально делаю это.
«Уважаемая товарищ Морокова!
Мы познакомились с присланными Вами стихотворениями и сочли возможным рекомендовать редакционной коллегии альманаха следующие стихотворения: «Ещё недавнее», «Отрочество», «Непутёвое лето».
Если редколлегия одобрит эти стихи, то они будут напечатаны, а Вы, соответственно, поставлены в известность.
Всего наилучшего!
Старший редактор…………………..
Составитель……………………………»
И внизу – приписка от руки: « P.S. К сожалению, редколлегией стихи не одобрены».
– Надо же, прогресс, – ехидно произносит возвратившаяся Маргарита, отобрав и прочитав приговор. – До самой редколлегии дошло, кто бы мог подумать! «Отрочество» могли бы и сразу откинуть, – продолжает она, перелистывая отвергнутые творения. – Такие сопли развела – для тебя совсем не характерно. Совершенно не твоё стихотворение! Так, а тут чего это они подчёркивают: «чей лепесток с лиловым кантом, цветочек гибнет на полу»? Обыкновенная ведь инверсия – или я чего-нибудь не понимаю?
Она редактирует научно-технические тексты, но, по-моему, – вполне могла бы поэтические.
– Ну так что, и дальше будешь дурака валять? – следует, наконец, её вывод.
Тётка восседает в кресле в позе народного судьи, а я пришибленно лежу на диване. Мне приходится упредить поток её новых инвектив скороговоркой:
– Ну, отстань, Маргарита, я же сказала: к нему – ни за что на свете…
Это, кажется, мой самый последний бастион, и я должна костьми лечь…
– Господи, да ведь не сам же он станет куда-то там тебя двигать – очень ему это нужно! Он просто отправит тебя к какому-нибудь нормальному человеку, к которому ты сама бы с улицы никогда не пробилась. А тот бы уже решал, стоит с тобой иметь дело, или – не доросла, вот и всё! Ты же сама прекрасно знаешь, что абсолютно все сначала заручаются чьей-то поддержкой – это ж вполне естественно! Только так и можно пытаться эту стену преодолеть. А ты детский сад изображаешь!
– К кому угодно, только не к нему!
– Ах ты, боже мой, какая щепетильность!.. Ну, хорошо – давай к кому-нибудь из друзей отцовых. Ведь не Егоров же твой тебе пробиться поможет – он тебя в лучшем случае в многотиражку тиснет. К празднику. Молчишь?.. Молчи, молчи. А, между прочим, ты заметила – это расхожее утверждение, будто все молодые поэты первую книжку издают только к сорока годам – уже вроде несколько… как бы это… перестало соответствовать действительности? Вон, посмотри, – у Олеси Николаевой, например, первая книжка вышла в двадцать пять лет!
– Это что, – вяло отбиваюсь я, – а у Ники Турбиной она – в восемь лет вышла…
Маргарита не удостаивает мой выпад ответом, резюмировав:
– Тебе же с твоими дурацкими комплексами её не выпустить и к пятидесяти! И виновата в этом будешь только ты сама!
– Сама, сама, – покорно соглашаюсь я.
Как всегда, с Маргаритой невозможно не согласиться…
Проговорив «Здасдядьмиш!» старичку на вахте, взбегаю по лестнице заводского ДК и пересекаю гулкий тёмный коридор. Направляясь на полоску ярко-жёлтого цвета, выползшую из приоткрытой двери, слышу протяжное, с завываниями и заиканиями, декламирование: очередное заседание нашего ЛИТО идёт полным ходом.