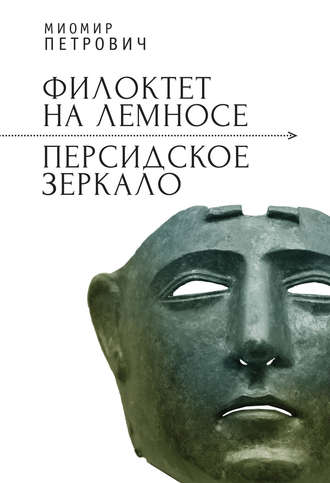
Полная версия
Филоктет на Лемносе. Персидское зеркало
Вряд ли эта легенда была правдивой, и Филоктет полагал, что быстрое высыхание восточных ветвей лемносских вязов, как, впрочем, и само существование здешних змей, наполнено определенным смыслом, более естественным, нежели божественным провидением, благодаря которому в редкие минуты, когда его охватывало нетерпение, он все-таки не влезал на высокие стволы деревьев, с которых на востоке можно было увидеть Трою и осаду, что все еще должна была продолжаться под стенами города. Именно этот смысл лишал стрельца возможности посмотреть в сторону города, который он некогда желал покорить. Подобные мысли являлись ему особенно часто в ветреные зимние ночи, когда он пытался призвать сон в свою постель из сухой травы. В эти минуты он снова и снова размышлял над символикой засушенной восточной части кроны, трансформируя это явление в историю собственной жизни, а также в историю острова, на котором он сам попал в бесконечную и безысходную повесть о бессмысленности троянского похода, превращая ее в мелкие подергивания капилляров под прикрытыми веками улегшегося, но еще не заснувшего человека, подергивания, которые своими краткими и резкими движениями все больше ввергали стрельца в страх и в сущностную клаустрофобию островной жизни, но никак не могли навеять желанный сон.
Конелия опять попробовала сорваться с веревки, заметив, вероятно, краешком глаза какую-то пахучую травку, которой так недоставало для достойного завершения пира, и Филоктету было совсем нелегко утихомирить подергивание одной из четырех веревок в руке, было нелегко переместить спутавшиеся в узел концы привязей в более сильную правую ладонь и одолеть разволновавшихся животных. Но эта работы вывела его из дремоты, и как только Конелия была возвращена в небольшое стадо, он взбодрился и согнал окончательно растерянность раннего утра и слабость, одолевающую после неважно проведенной ночи. Закачавшись на слабых ногах и решительно дернув левую часть тела, левой ногой он нащупал опору и выбросил правую ногу из ямки, в которую она попала. Рана кольнула его, напомнив не столько о своем присутствии, сколько о том факте, что за все прошедшее время она стала неделимой частью его тела, частью, сросшейся и с ногой, и с самим ее владельцем, частью, задачей которой было производить боль и венчать болью каждое движение стрельца, каждый его вдох и выдох, частью, которая не была предназначена ни для чего иного, но только для боли.
Хромой стрелец выругал козу распоследними словами, плюнул на землю, которая уже стала подсыхать, хотя прямые солнечные лучи, эти видимые снопы светящихся нитей еще не падали на нее, а только грели облака, прижатые к земле солнечным сиянием, и продолжил ковылять со своими козами, которые, как ему, медленно плетущемуся впереди, казалось в минуты жалости к самому себе, не спускали за его спиной взглядов с хромой ноги. Чуткими ушами, казалось, следили за каждым неверным движением или неудачным шагом пошатывающегося хозяина и, почти что цокая языком, махали головами из стороны в сторону, как бы говоря: «НУ И ДЕЛА, РАЗВЕ ТАК ХОДЯТ, А ВОТ НА ЧЕТЫРЕХ НОГАХ ТАК НЕ ШАСТАЮТ, ГЛУПЫЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК!»
Нередко Филоктет замышлял замереть во время одного из таких шагов враскачку, отказаться от походки, вызывающей смех у детей и молчание взрослых, недобрым взглядом отмечающих всё, шепча в спину греческого врага что-то вроде: «Только бы нас это не коснулось», и, наконец, опуститься на все четыре члена, слившись на четвереньках со своей собственной молчаливостью и нервозными взглядами (как птица ищет спасения, мечась туда-сюда в замкнутом пространстве), и самому, наконец, стать козой. Потому что тело этого человека помнит лучшие дни, когда оно было прямым, красивым, живым в любую свою пору, подвижным в любую секунду бытия, по-охотничьи напряженным, как тетива лука, и готовым в каждую секунду прыгнуть, напасть или отступить, если надо. Тело этого человека некогда даже в минуты покоя излучало энергию и скрытое напряжение дикой кошки. Теперь же это было не просто далеким прошлым – само воспоминание об этом прошлом стало проклятием.
А может быть, и Хриса, особенно в первые годы его пребывания на острове, в те минуты, когда решалась на некий тайный союз с человеком, которого все избегали после запрета убивать его, может быть, ей тогда удалось разглядеть намеки на прежний гибкий стан воина и гимнаста, и потому, окруженная юродивыми и выродившимися мужиками, охотно пользующими тело, обернулась душой к больной и хромой фигуре стрельца? Хотя и она, как все прочие, не могла не почувствовать ужасный смрад, который распространяла его нога. Неужели его тело могло быть для нее привлекательным?
Охотник всегда знал, что осознание утраченной гармонии ведет к вечному человеческому отчаянию. Разве каждое человеческое существо не пребывает в непрерывном поиске утраченной дороги, по которой можно вернуться на Олимп?
Уже шесть лет живет Филоктет со смрадом своей раны, сейчас несколько подзажившей, со страшной вонью, раздражающей его собственное нёбо, смрадом, который первоначально заставлял содрогаться не только воинов, но и равных ему полководцев, смрадом, извергающимся из каждой капли его пота, изо рта, из слез, из трепета ресниц, смрадом, который он со смесью стыда, страха и чувства предстоящего умирания невольно испускал каждой порой своего тела, но более всего этой, теперь в большей степени черной, нежели кроваво-красной рваной дыры.
Мало того, не он живет с раной, а она живет сама по себе на его уже отупевшем от боли теле как гость, который со временем стал значительнее хозяина дома, а сам он – приживала у существующего самостоятельно кровавого кратера, прислушивающийся к только ему понятным импульсам, испуская время от времени пару капель крови, а иной раз и струйку, а то и зеленую слизь, которая, смешавшись с сизыми пузырьками непонятного происхождения, медленно, совсем как змея, скользит вниз по ноге, достигая корней пальцев, стиснутых грубой сандалией, где исчезает, совсем как горная речка, пропадающая в отверстии меж стесненных скал, чтобы вновь появиться где-нибудь на поверхности.
VI
Во время разглядывания этой струйки стрельцу часто приходила в голову мысль, покоящаяся в промежутке между сознанием и подсознанием, о том, что истечение жидкости есть не просто рядовое сравнение с истечением жизни, а, скорее, истечение некоего древнего, но все же его личного греха. Необычность этой раны была не только в ее постоянстве, в ее силе и упорно повторяющемся раскрытии, в невозможности ее исцеления; настоящая загадка для него и редких знахарей, пытавшихся бороться с ней, была в том, что состояние ее не ухудшалось, она не была смертельной, но и не залечивалась. Таким образом рана создала некий постоянный вакуум, в центре которого оказался сам охотник, застрявший меж двух дней, один из которых никак не хотел закончиться, а второй не желал наступать, она образовала стеклянный колокол, выделивший и ограничивший болящее место стеклом, болью, которая, как и сама рана, не могла ни закончиться, ни делаться все сильнее. Таким был порядок вещей, сложившийся в сознании Филоктета во время первых лет его пребывания на Лемносе, маятниковая система улучшения и ухудшения состояния раны.
Так, например, долгое время он пребывал в уверенности, что нервозность, беспокойство духа, страх и мрачные мысли вызывают сильные боли и кровотечение. Позже, отказавшись от неверного предположения, он обнаружил, что хорошее питание и чувство сытости суть главные условия для заживления раны. Далее последовали гипотезы о влиянии на рану постоянных ветров и перемен в погоде, а также самая, наверное, оригинальная мысль о том, что рана болит и гноится только тогда, когда котятся его козы, и боль перестает, как только козлят отлучают от материнского вымени.
Невольно, одну за другой, Филоктет отбрасывал эти системы, как утопающий в зыбучих песках в доли секунды отвлеченно, все еще окрыленный активной надеждой, всё-таки осознает, что и третья, и четвертая ветка, за которую он ухватился, оказалась гнилой. В конце концов дерево, склонившееся над воронкой песчаной ловушки, оказывается голым, без единой веточки. И вот, о чудо, тело вдруг перестает погружаться, оставаясь, тем не менее, намертво схваченным гнетущей массой. Так вдруг и его рана переставала болеть.
После примочки из ядовитых опилок, соструганных с одной из Геракловых стрел, которую он приложил осенью третьего года пребывания на Лемносе, рана стала подсыхать, и в человеке проснулась надежда на выздоровление. Но и это продлилось недолго. С наступлением весны вонь опять стала шибать в нос больного, предвещая новый приступ. И это стало правилом. С осени покой, с весны – гной. Теперь он мог передохнуть хотя бы зимой, но и этот факт обрядился в одежды проклятия, потому что в нём тоже крылось лукавство зловещего змеиного укуса на Тенедосе, прямо на алтаре Аполлона Смитийского, на котором Паламед (это трусливое дерьмо со всеми регалиями великого полководца), опустошив этот остров, принес в жертву в знак благодарности за счастливый исход стычки.
Мало кто из знахарей соглашался обломить зубы о его твердый орешек. Первым среди них был Махаон, официальный хирург объединенного войска. Еще на Тенедосе он вырезал из ноги приличный кусок мяса, обложил рану прокипяченными листами аспануса, припорошил ее толченой видолией, и, не обращая внимания на крупные, с горошину, капли пота, которые появлялись на его лбу, как звезды на черном бархате неба, с силой забил в рану тряпку, пропитанную древним кипрским препаратом. Однако это ничего не дало.
Разве что вопли Филоктета стали еще более пронзительными, реже повторяющимися, но более отчаянными и действующими так, что у стоящих вокруг воинов волосы на голове вставали дыбом, а Ахилл и Одиссей ладонями зажимали уши, ужасаясь нечеловеческим крикам, которые напоминали им об абстрактном, но в то же время и вполне реальном человеческом несчастье, которое могло постичь любого, в том числе и их самих.
Таким же, очень похожим на охвативший страх, был их рапорт в штабном шатре Агамемнона. Начали они решительно, но, добравшись до момента, когда следовало описать состояние Филоктета, их отважные и нетронутые ноги затряслись и покрылись потом, вызванным страхом смерти, и голоса их дрогнули в притворном, торгашеском сочувствии чужому страданию. В тот момент они забыли, как днем раньше оба они встречали рассвет с окровавленными руками, насилуя жену одного из предводителей тенедосского войска, которого они даже и порешить честным образом не сумели, надеясь, что вместо них этим займутся солдаты, а потом прирезали жертву собственной похоти. Свой рапорт Ахилл и Одиссей завершили мелким сочувственным причмокиванием: «Похоже, стрельцу не выжить». После Махаона, уже на Лемносе, с грудой боли и с раздраженной, облитой кровью отверстой плотью Филоктета сошлись в схватке еще два знахаря. Первый, умственно отсталый старец по имени Коял, употребил с этой целью чаячьи крылья, обмотав колено Филоктета перьями, не используя для этого ни одной вещи, созданной человеческими руками (платок или полотно), прижал их кулаком и не отрывал его от раны два дня. Накачивая несчастного многочисленными противоядиями, а таковых было очень много, судя по тому, что на Лемносе из всех знахарских искусств сильнее прочих развилось умение бороться со змеиными укусами, а также с воспалением ушей, вызванным ветрами, Коял все больше и больше нервничал. Едва сняв повязку с дыры, он принялся что-то бормотать на своем эольском диалекте, которым фессалиец овладеет только через несколько лет, когда в нем самом случится серьезная перемена. Старец, видимо, пришел в ужас от того, что в результате его лечения рана стала выглядеть еще страшнее, что, похоже, прочистило его ум, и он отрезвел. А рана становилась все страшнее и страшнее.
После Кояла еще только один юноша, совсем зеленый и усыпанный мелкими черными мягкими бородавками, отважился взяться за лечение раны. Чего только мальчишка не наносил на нее – всевозможные травы этого ветреного острова, потом яд змеи, родственной той, что с шипением высовывала свой узкий язык из оскольчатых трещин алтаря… В момент полного отчаяния юноша окропил рану собственной спермой, которую он, будучи еще невинным, он считал целебной. Но и это ничего не дало.
Несколько дней спустя стрелец, впав в отчаяние, ковылял, привыкая к новой походке. Он исследовал остров, сопровождаемый шипением многочисленных змей в кустах, где и натолкнулся на служанку Актора, которая за несколько недель до этого уже начала совать ему в руки, молча и зачастую даже не глядя на него, свертки с украденной, очевидно, едой. Хриса словно явилась из центра земли – вдруг материализовалась тут, у куста, с которого собирала ягоды. Одетая все в то же старое и слишком широкое для нее, тощей, платье, она впервые пристально посмотрела на стрельца. Филоктет замер.
Он не знал ее языка, что не было странным, и она не понимала ни единого слова из его языка, а это вот было удивительнее. Однако позднее Филоктет понял: именно это и пристало служанке. Она не была стеснительна в том смысле, чтобы скрывать симпатию к существу, с которым никто другой не желал общаться. Она казалась затаенно истеричной, возможно, невольно, из-за крупных восточных глаз, контуры которых так трудно было определить (где начинается череп и где кончается глаз), глаз, протканных полопавшимися капиллярами, что свидетельствовало об огромном внутреннем напряжении.
Рассмотрев и в первый раз серьезно обратив внимание на эту особу, Филоктет моментально забыл злость, с которой отправился в бесцельную прогулку со своим хромым телом, непреодолимым препятствием и одновременно – источником злобы. Он еще не успел как следует удивиться неожиданному появлению, как из-за ее ног с вздутыми венами, из-за того же куста вылетели мелкие детишки – две растрепанные девчонки разного, но в то же время неопределенного возраста, сопливые и замурзанные, но, судя по огромным глазам, несомненно ее собственные. Она потрепала их по головкам, словно давая тем самым знать стрельцу, что это ее дети и что, если понадобится, она защитит их от него. Взгляд ее необычно долго задержался на его глазах, после чего быстро перескочил на тело, которое она моментально словно впитала в себя. А потом она обратилась к нему, очень глупо, так, как поступают люди, разговаривая с иностранцем, о котором точно известно, что он не знает ни одного слова на их языке – сначала небрежно, а потом всё запутаннее, неясно бормоча и глотая звуки, создавая вместо моста взаимопонимания непреодолимую стену, выстроенную одним лишь инстинктивным отрицанием факта существования других языков. Прекрасно понимая самих себя, они злятся на не разумеющего их чужака.
Заметив, что ее обращение не доходит до Филоктета, поскольку тот, замерев в своей боли, смотрел на нее без всякого выражения, не понимая и не желая ничего понимать, она стала использовать руки и жесты, чтобы изъявить ему готовность помочь в излечении раны.
Что оставалось Филоктету? В тот момент ничего. Тем не менее, он вспомнил про оружие Геракла, которое тот, в то время человек, а позднее – полубог, сунул ему в еще слабые руки. И потому он решил с помощью этой высокой и капризной женщины поскоблить острие одной из стрел в колчане, смазанное таким ядом, что царапина, нанесенная им, несла быструю, сопровождаемую страшными судорогами, смерть. Он понимал, что был всего в шаге от самоубийства. И, может быть, именно потому завернул ядовитые опилки в тряпочку и попросил служанку прижать сверточек к открытой ране. После чего закрыл глаза.
О том, что тогда бродило в его сознании во время приготовления к смерти, которая в ту минуту казалась такой желанной, Филоктет вскоре и вовсе перестал думать. Или, может быть, запер эти мысли в одном из садов собственной совести, или в каком-нибудь чулане, чтобы они не мешали свободному движению?
Странно, его организм не отреагировал на яд Геракла, которому исполнилось много лет, а может, и столетий, который сеял всюду вокруг себя смерть, не трогая только стрельца – нового обладателя провозвестников смерти, надежно скрытого от его жертвы с пальцами, судорожно сжатыми у оперения, и с глазом, замершим на мишени. Два месяца спустя, когда остров утопал в осени, гноище несколько затянулось, образовав почти прозрачную пленку, чтобы летом вновь проснуться вместе с окружающей его природой. Но, как ни странно, яд со стрелы спас Филоктета от верной и болезненной смерти, которая уже начала потихоньку проникать в лагерь его жизни.
VII
Как только человек и его животные вышли из редкой рощицы одиноко стоящих вязов, над островом вспыхнуло солнце, полосы горячего света ударили в землю, в человека под небом и в стволы вязов, а козы, ожидая, видимо, нового налета ветра, обеспокоились, готовые, в случае возникновения на пути любой неожиданности, тут же вернуться на богатое травами плоскогорье, где они только что угощались. Филоктет сильнее потянул их за веревки, и Хиспания принялась блеять, но, поскольку с утра мужчина был вял, у него не возникло ни малейшего желания вступать в борьбу. Он поймал равновесие на правой, раненой ноге, и поднял левую, гибкую и абсолютно здоровую, как бы намереваясь сделать шаг, но тут неожиданно перескочил через лужу и пнул козу здоровой ногой. Хиспания взблеяла и принялась отыскивать взглядом прочих коз, требуя от них поддержки и подтверждения ее прав, но те, сами только что бывшие взволнованными, посмотрели на нее равнодушно, словно их слишком утомляло сопротивление, которое, безусловно, следовало бы оказать. Упрямица разочарованно вернулась в маленькое стадо.
Стрелец повел коз тропой вдоль гряды зазубренных скал, предвещавшие горы, которые вскоре появятся перед ними, и направился к хижине несчастного Фимаха, старца, телом и умом пострадавшего от браков между ближайшими родственниками. Фимах ежеутренне чистил перед своим домиком медные сосуды с проволочной ручкой, в которые Филоктет доил коз и в которых потом относил молоко царю.
Стрелец знал эту дорогу как пять своих пальцев, он мог бы пройти по крутой тропе и с завязанными глазами, мог бы и ночью пересечь весь остров, но его знание, как это бывает у хромых людей, основывалось на микрорельефе дорог, на всех этих колдобинах и небольших, но для него иной раз непреодолимых неровностях. Однако эту тропу он знал лучше прочих из-за зубчатых, словно заостренных скал, что устремлялись от основания в высоту, будто остатки фундамента прежних гор, которые, неудовлетворенный первоначальным проектом, Зевс оторвал от поверхности и поднял в небо, чтобы потом, может быть, поставить на иное, более соответствующее его планам место; он знал ее из-за скал, которые ему с первого взгляда краешком глаза, регистрирующим новые формы, напомнили широкоплечих воинов в великолепных доспехах, что движутся с обнаженным оружием (неся в себе страх смерти и еще больший страх – боязнь поражения) на Трою.
Так он их и называл, именами бывших соратников. Стоило только вновь подумать об этом, как перед ним поднялись, словно вышедшие из морских глубин, Менелай (по прозвищу «мощь народа») и Агамемнон (по прозвищу «очень решительный»), а за их свитой, но куда жестче ее, Одиссей (по прозвищу «злой»), Паламед и Диомед. Слева, из направления, откуда утром являлся свет солнечного шара, являлись перед ним в каменном корабле очертания Идоменея и Ахилла (по прозвищу «тот, без губы»), Аякса, а затем и Феникса. В этом хороводе греческих полководцев слегка грустно, чуть свирепо, и конечно же, скромно он изваял самого себя в облике черной, высокой, скрюченной скалы.
Может, при выборе именно этого создания природы для собственного изображения решающим стало ближайшее дерево, которое напомнило ему длинный изогнутый лук Геракла. Там действительно был он, в обществе тех, с кем решил больше никогда не иметь дела, в обществе, из которого его вычеркнул укус змеи, и был он во главе небольшого, но хорошо известного своей решительностью мелибейского войска, и эта каменная махина была для него действительно воплощением давно потерянного для всех лучшего стрельца Фессалии, воплощением Филоктета.
И надо же, именно рядом с этой ужасно корявой скалой он обнаружил скрюченное, ростом весьма достойное, а по названию неизвестное ему дерево, которое от самого корня росло как-то кривовато, словно сломанное пополам налетом ветра, а потом все-таки выжившее и оставшееся таким, какое есть, дерево, которое в минуту бессознательной нежности или перевозбуждения назвал Хрисой (по-гречески «золотой»).
Вся это груда острых скал напомнила Филоктету совершенно конкретное, замершее во времени мгновение, когда эта плеяда воинов собиралась в поход, и даже решительно начала его, напомнила ему грозовой день на Авлиде. Скала Агамемнона, скажем, взяла его штурмом и сама себя обозначила двумя черными полосами, возникшими, наверное, от струй дождевой воды, стекавшей с туповатой вершины; они напоминали ему кровь, стекающую с рук Агамемнона, кровь его дочери Ифигении, которую принес в жертву этот взбалмошный, бесстыжий, туповатый дикарь, слепо верящий каждому слову своих жрецов, но так и не научившийся правильно возлагать жертву на алтарь, этот «правоверный» верующий, на самом деле псевдоверующий, безразличный, готовый по наговору никчемного пьяницы – верховного жреца Калханта, убить собственную дочь всего лишь из-за ветра, не позволившего отплыть греческой армаде.
Вторая скала, Одиссеева, также своим обликом сама себе повелела назваться Злым. Филоктет уже при первой встрече заприметил длинный камень, который невероятно походил на большой кривой нос Одиссея, а мох около этого камня напоминал нездоровый цвет кожи этого человека, хитроумного Одиссея, притворившегося сумасшедшим, когда надо было отправляться на войну, но моментально, стоило Менелаю лишь намекнуть на возможность всласть пограбить, стал еще каким нормальным, даже сознание его прояснилось; и Одиссея, следовательно, напомнила Филоктету эта скала, его непостоянное, но инстинктивно лживое естество, его нос, который, когда владельца подлавливали на лжи или перевирании, начинал виснуть, позволяя губе прикрыть ноздри и придавая лицу хитрованское выражение. Напоминала ему эта скала закутанного, жиром заросшего «героя» с Итаки, что надоедливой и преувеличенной любезностью старается внушить людям, какой он воспитанный, культурный и исключительно храбрый воин, а на самом деле – обычный герой застолий, где с большим жаром рассказывает о хорошо приготовленном блюде, чем о самой битве.
То же было и с другими каменными фигурами, торчащими в лемносских пейзажах, которые сами себя назвали греческими героями, в то время как Филоктет, гораздо позже них прибывший сюда, сорвал маски и истолковал их истинную сущность.
Между тем стрелец и козий пастух, сопровождаемый из-за своей неуверенной походки облаком пыли и козьим блеяньем, спешно миновал скальный массив, названным им «День на Авлиде», и оказался посреди долины, в которой нельзя было не заметить дом Фимаха.
VIII
Хижина Фимаха была возведена из досок, оставшихся от какой-то великолепной постройки, и камней, которые своей естественной плоской формой напоминали черепицу, хотя на самом деле были случайно собраны в поле.
Перед хижиной не были ни одной живой души. У Фимаха была привычка оставлять вычищенные и приготовленные для сбора молока сосуды, после чего он прятался, чтобы понаблюдать, как бывший полководец собирает их, позвякивая вследствие своей хромоты металлом, и как он направляется кружным путем к своей хижине-загону, таща на веревках коз, которые в некоторой мере тащат и его самого.
Филоктет взял сосуды; и в самом деле, каждый из них так был надраен песком с морского берега, что легко можно было рассмотреть склонившееся над ободком лицо. Фимах прекрасно знал свое скромное дело, потому что голова запросто слетела бы у него с плеч, если бы царь обнаружил в молоке хоть крупицу грязи. И стрелец тоже с самого первого дня осознавал, что Актор, едва появится малейший признак отхода греческих войск из-под Трои, убьет его за малейшую провинность. Приняв сосуды на плечи, он и в самом деле звякнул ими, как разукрашенные флажками афинские или коринфские праздничные колесницы, и двинулся вниз по тропе, уводя за собой стадо.
Из ближайших зарослей кустарника, что навис над отрезком тропы, послышался треск сломанных веточек, и Хиспания тревожным голосом отозвалась на него. Филоктет остановился, нащупывая правой ногой удобную позицию в выбоинах тропы, потом ловко перебросил палку из правой руки, нагруженной медными сосудами, в левую, и приготовился. Приготовился отогнать заблудившуюся змею, которая, запутавшись в ветках, может стрельнуть языком в коз или человека, ударить в темя, если понадобится, или спугнуть дикую кошку, что слишком небрежно изготовилась к прыжку из зарослей.
Но из кустов вылетело несчастное человеческое существо.
Одна нога короче другой, позвоночник искривлен, а невероятно ловкие руки завершались длинными ногтями, более напоминавшими когти, икры поросли кудрявыми волосами, в большей степени приличествующими животному, а тело покрывала кожа, на которой местами торчали пучки шерсти. Это был Фимах.

