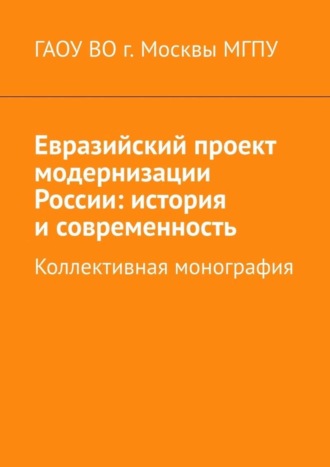
Полная версия
Евразийский проект модернизации России: история и современность. Коллективная монография
Вместе с тем, считал мыслитель, нравственная идея – прежде всего идея религиозная. Он решительно отвергает «муравейник» государства, созданный против общины-церкви. Большинство евразийцев эту идею Достоевского, конечно же, разделяют. Что касается русского национального характера, то, по мнению Достоевского, в России сформирован высший культурный тип, которого нет нигде в мире.
Вот такое мощное философское наследие предшествовало возникновению оригинального взгляда русских мыслителей, оказавшихся в эмиграции, на историю России и ее судьбу в ХХ веке, назвавшими себя евразийцами. История России-Евразии, по мнению историка Г. В. Вернадского, выступает как история борьбы между «лесом» и «степью», т.е. между оседлыми славянами лесной зоны и урало-алтайскими степными кочевниками, в более широком плане – туранскими народами, к которым евразийцы относили угрофиннов, тюрков, монголов, манчжуртов и т. д. [2].
Евразийцы считали, что всем народам Евразии присущ единый психологический тип. В конечном счете, подчеркивали Вернадский, Трубецкой, московское государство в значительной степени образовалось на развалинах Золотой Орды, т.е. является наследием Чингисхана. Русское благочестие, русская духовность возникли во времена татарщины. Без татарщины не было бы России. П. Савицкий утверждал, что именно благодаря так называемому «татаро-монгольскому игу» «Россия обрела свою геополитическую самостоятельность и сохранила свою духовную независимость от агрессивного романо-германского мира» [11: с. 342].
В наше время подобные идеи обосновывал известный отечественный историк Л. Н. Гумилев, дополнив их концепцией этнической пассионарности. По мнению Л. Н. Гумилева, на популяционном уровне жизнь этноса регулируется биосферными импульсами пассионарности. Пассионарный толчок в развитии российского суперэтноса произошел на рубеже XIII в. [4]. К сожалению, наша жизнь в XX в. характеризуется упадком пассионарности.
Многие сторонники евразийства защищали так называемое «органическое мировоззрение», противостоящее демократическому. Например, Л. П. Карсавин, будучи после 1924 года главным редактором газеты «Евразия», резко нападал на демократию, характеризовал демократическое умонастроение как «некрофилию» (труполюбие). Опираясь на гегелевское учение, выдвинул идею метафизики всеединства, единства в мире всех и вся. Каждый момент личность в своей качественной единственности есть вместе с тем символ всех других его состояний. Подлинная личность – симфоническая личность – гармонически связана со своим космическим бытием, и именно симфоническая личность является подлинной сакральной личностью.
По мнению Н. С. Трубецкого, существует лишь одно истинное противопоставление: романо-германский народ и все остальные народы мира, т. е. Европа и человечество. Никакой общечеловеческой цивилизации нет. Под видом общечеловеческой цивилизации навязывается культура романских и германских народов. Россия, занимая срединное положение между Европой и Азией, представляя собой континент – Евразию, должна осознать свою особую миссию: служить всему человечеству, всему миру. Только тогда она победит [14].
Призывая развивать и утверждать национальную культуру, Н. С. Трубецкой подчеркивал, что именно в своей национальной культуре народ выявляет свою индивидуальность. «Момент оценки должен быть раз и навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие» [14: с. 62]. Вместе с тем он решительно выступал против национализма. Единственно истинным, логически оправданным может быть признан только такой национализм, который исходит из самобытной национальной культуры. «Но нам приходится иметь дело с такими националистами, для которых самобытная национальная культура их народа не имеет значения. Они стремятся только к тому, чтобы их народ приобрел государственную самостоятельность, чтобы он был признан другими народами, прежде всего, большими, великими», писал он в 1921 г. [7: с. 63].
Евразийцы выступали за особый тип государственной власти – идеократический. Решающим фактором власти должна быть идеология. Вместе с тем, считал в частности Л. Карсавин, идеократическая власть должна учитывать стихийные народные настроения. Такой строй, опирающийся на идеократические принципы и одновременно признающий народные интересы, евразийцы называли демотическим.
Конечно, они были государственниками (этатистами). Ослабление государства – синоним упадка личности и народа [8: с. 189]. Тем не менее, выступали за сочетание государственных и личностных начал. Но социальная жизнь должна, по их мнению, развиваться под знаком религиозности. Человек – образ и подобие Божие, вносящий божественную гармонию в окружающий хаос.
Апелляция к религии, пожалуй, – наиболее спорный момент в концепции евразийцев. На евразийском пространстве сосуществуют три мощных религиозных конфессии: православие, ислам и буддизм, а также ряд других менее влиятельных. Ни одна из них не может претендовать на определяющую интегрирующую роль в одном государстве Россия—Евразия. Все конфессии должно уважать, поддерживать, помогать друг другу, толерантно взаимодействовать.
В любом случае, в современном государстве не может быть государственной религии. Утверждение: быть русским – значит быть православным (Н. С. Трубецкой) – неприемлемо, на наш взгляд. Оно может привести к религиозной (и социальной) вражде.
По многим вопросам у евразийцев не было единства. Н. О. Лосский критиковал Л. Карсавина за антиперсонализм, за отрицание истинно вечной индивидуальной уникальности как абсолютной ценности, за то, что он рассматривал личность как бессознательное орудие «хитрого» Духа. Г. В. Флоровский находил в учении Карсавина философскую основу утопизма. Проблема, по Флоровскому, состоит в том, что так называемое «органическое мировоззрение» рассматривает дух не как сверхприродный Абсолют, а как развивающийся по собственным «природным» законам.
Не борьба Бога и дьявола в сердцах людей, а борьба «нового» со «старым» станет определять ход истории. И как следствие, проблемы истины, добра, красоты отступят перед проблемами политическими. Главное же, по Флоровскому, не политика, а культура. Поэтому «От грохота вселенской бури не подобает преждевременно и малодушно впадать в апокалипсический транс. Это еще не последние времена. Метафизическая буря бушует издревле, а чуткий слух во все времена первым слышит ее и сквозь пелену благополучия. Хронологический предел не любопытен для углубленного духа», – заявлял Г. В. Флоровский [15]. Кроме того, Флоровский считал, что П. Савицкий и другие растворяют историю в «территории», в «месторазвитии» и недооценивают народ в качестве подлинного исторического субъекта. Позднее Л. П. Карсавин и Г. В. Флоровский порвали с евразийством, их оттолкнула растущая политизированность этого движения.
В конечном счете, несмотря на разногласия, споры и дискуссии, евразийское движение отражало мироощущение влиятельной группы русских интеллигентов, прежде всего тех, кто оказался за рубежом. Вера в Россию, в то, что она может раскрыть подлинную общечеловеческую правду, рождала в их душах надежду и веру, придавала высокий духовный смысл их жизни и деятельности.
Именно поэтому Россия призвана изречь окончательное слово общей гармонии, братского согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Эти идеи великого писателя Ф. М. Достоевского никто из русских: ни евразийцы, ни приверженцы других концепций и движений, конечно же, не будут отвергать. Другое дело: готовы ли мы сегодня к всечеловеческому единству и братству?
Литература
1. . Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. 635 с. Алексеев Н. Н
2. . Русская история. М.: Аграф, 1997. 542 с. Вернадский Г. В
3. Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1934. 187 c. Вернадский, Г. В.
4. . От Руси к России. М.: Экопрос, 1992. 336 с. Гумилев Л. Н
. Полн. собр. соч. Т. 21. Л.: Наука, ИРЛИ (Пушкинский дом), 1980. 551 с. 5. Достоевский Ф. М
. Полн. собр. соч. Т. 27.. Л.: Наука, ИРЛИ (Пушкинский дом), 1980. 463 с. 6. Достоевский Ф. М
7. Исход к Востоку: Утверждение евразийцев. Предчувствия и свершения. София: Рос.– Болг. книгоизд-во, 1921. 125 с.
. Государство и кризис демократии. М: Новый мир. 1991. №1. С. 183—193. 8. Карсавин Л. П
. Полн. собр. соч. Т. 1. М.: Путь, 1911. 287 с. 9. Киреевский И. В
. Избранное. М.: Рарог, 1993. 398 с. 10. Леонтьев К. Н
11. На путях. Утверждение евразийцев. Москва—Берлин: Геликон, 1922. 356 с.
Евразийство // Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. 494 с. 12. Савицкий П. Н.
13. . Собр. соч. Т. 2. М.: Мысль, 1988. 824 с. Соловьев В. С
. Европа и человечество. М: Директ-Медиа, 2015. 113 с. 14. Трубецкой Н. С
. Метафизические предпосылки утопизма. Париж: Путь, 1926. №4. 15. Флоровский Г. В
Глава 2. Классическое Евразийство. Персоналии
Родина
О неподатливый язык!Чего бы попросту – мужик,Пойми, певал и до меня:– Россия, родина моя!Но и с калужского холмаМне открывается – она Даль – тридевятая земля!Чужбина, родина моя!..Даль, отдалившая мне близь,Даль, говорящая: «ВернисьДомой!» Со всех – до горнихзвезд —Меня снимающая мест!Недаром, голубей воды,Я далью обдавала лбы.Ты! Сей руки своей лишусь, —Хоть двух! Губами подпишусьНа плахе: распрь моих земля —Гордыня, родина моя!Марина Цветаева. 1932 г.(из книги «Версты»)2.1. Нация и культура в учении Н. С. Трубецкого (Сухорукова О. А.)
Николай Сергеевич Трубецкой (1890—1938), лингвист, философ и публицист, был одной из самых значимых фигур евразийского движения.
В 1920 г. в Софии вышла в свет его статья «Европа и человечество» [6]. Как часто бывало в среде русской эмиграции, статья привлекла к себе внимание: она вызвала споры и критику. Любопытно, что ее критиковали даже те, которые через год сами окажутся в стане сторонников автора. Эта статья Николая Сергеевича Трубецкого стала первым шагом, своеобразным предисловием к процессу формирования одного из самых сложных и неоднозначных пореволюционных движений – евразийства.
Евразийство как течение русской общественно-политической мысли, сложившееся в эмиграции, ведет свой отсчет с момента выхода в Софии в 1921 г. сборника «Исход к Востоку» [2]. Авторы этого сборника П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский и Н. С. Трубецкой стали считаться основателями евразийского движения. Немногим позднее их поддержали другие представители первой волны русской эмиграции П. П. Сувчинский, Л. П. Карсавин, Г. В. Вернадский, Н. Н. Алексеев. Неслучайно П. П. Сувчинский называл Трубецкого «верховный евразиец», философа считали главным «охранителем» евразийских идей. — —
Возникновение новой идеологии было обусловлено переменами, которые произошли в России и Европе: неудачный и трагический (по мнению русской эмиграции) опыт русской революции и как следствие этого приход к власти большевиков. Мировая война, кризис буржуазных демократий и несовершенство социально-экономической структуры западного общества все это заставило представителей русской интеллигенции пересмотреть прежние взгляды, подвергнуть сомнению либеральные и демократические ценности и, в конечном итоге, прийти к осознанию того, что ценностные ориентиры западной культуры не могут больше служить образцом для подражания. Евразийцы первыми в русской эмиграции поняли, что произошедшие в России перемены носят не временный и краткосрочный характер, и все, что случилось в родной стране, нельзя объяснить одними политическими и социально-экономическими проблемами российской государственности, которые привели к трагическому исходу. — –
Все это требовало серьезного и глубокого изучения исторического опыта страны, социокультурных особенностей российской цивилизации и религиозно-философского контекста формирования идейного наследия отечественной культуры. Вследствие этого евразийская концепции по своему содержанию оказалась гораздо шире, масштабнее и сложнее по структуре, чем любое из общественно-политических течений дореволюционной России. Она не содержала в себе реставрационных идей, не задавалась целью вернуться к дореволюционной России. Кроме того, евразийцы учитывали советскую реальность, они не только не воспринимали ее как случайный и ошибочный эпизод в историческом развитии России, но и серьезнейшим образом исследовали ее, анализируя современность с учетом социокультурного опыта прошлого.
Движение прошло путь от становления и развития историософских идей до политизации и оформления на их базе евразийской организации, которая на последнем этапе своего существования сближается с большевизмом. Печатные издания евразийцев будут менять города: София, Берлин, Лондон, Париж. Уход от культурологического осмысления событий к политическому приведет евразийство к внутреннему кризису, а затем к его краху. Первый кризис внутри движения возник в 1927—1928 гг. Вначале евразийство покидает философ, богослов Георгий Флоровский, а позже начинает тяготиться участием в движении Николай Трубецкой.
Сохранилось письмо Трубецкого Сувчинскому, датированное 10 марта 1928 г., в котором Николай Сергеевич высказывает свое отношение к евразийству: «Я теоретик и дело мое писать теоретические статьи. А в дела мне лучше не соваться… То время и те усилия, которое я трачу на одну страницу такого меморандума, хватило бы на целое научное исследование листа в три по лингвистике. Занимаясь написанием всего этого евразийского кошмара, я чувствую, что мог бы все это время и труд с гораздо большей пользой (и для себя и для других) потратить на науку… Евразийство для меня тяжелый крест, и притом совершенно без всяких компенсаций. Поймите, что в глубине души я его ненавижу и не могу не ненавидеть. Оно меня сломало, не дало мне стать тем, чем я мог бы и должен был стать» [7: c. 20]. И Флоровский, и Трубецкой были столпами культурно-философского обоснования евразийской концепции, их критическое отношение к движению свидетельствовало о его политизации, что, по мнению ученых, сводило на нет главную историософскую составляющую евразийства.
В 1931 г. кризис, возникший внутри евразийства, пытались разрешить созывом первого Обще-Евразийского съезда в Брюсселе. Однако съезд не решил проблемы евразийского течения, были только выпущены его документы, оформленные брошюрой «Евразийство. Декларация, формулировка, тезисы» [1]. Этот документ стал официальной политической программой евразийства и его культурно-исторической основой. Однако на съезде не была образована евразийская партия, а именно на ее создание возлагали большие надежды.
Н. С. Трубецкой, несмотря на свое недовольство евразийством, не оставляет его и до самого конца совмещает свое участие в движении с научной и преподавательской деятельностью. Проблемы филологии и лингвистики стали центральными в его работе в Пражском лингвистическом кружке. И все же политизация движения сказалась на работах ученого, которые постепенно приобретают идеологический характер. Это заметно по основным публикациям ученого.
В 1920—1922 годы в период оформления основных положений евразийской концепции выходят работы Трубецкого «Об истинном и ложном национализме», «Верхи и низы русской культуры», «Религии Индии и христианства», «Русская проблема». Все они носят ярко выраженный культурологический и лингвистический характер, в них дается теоретическое обоснование уникальности культурно-национального типа России-Евразии [см. 8]. – –
1923—1927 годы – времярасцвета евразийства и появления новых работ философа, в которых наряду с культурологическим появляется исторический аспект: «Соблазны единения», «У дверей. Реакция? Революция?», «О туранском элементе в русской культуре», «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока», «Мы и другие», «Общеславянский элемент в русской культуре», «Общеевразийский национализм», «К украинской проблеме» [см. 8].
Наконец, в 1928—1934 годы в поздний период евразийства, время раскола движения и его политизации, мы видим работы Н. Трубецкого, в которых все больше идеологии. Среди таковых: «Мысли об автаркии», «Об идее-правительнице идеократического государства», «Упадок творчества», «О расизме» [см. 8]. —
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



