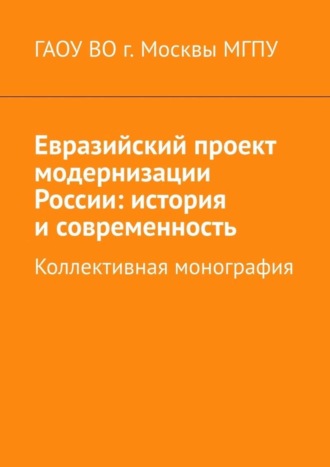
Полная версия
Евразийский проект модернизации России: история и современность. Коллективная монография
Вопрос о будущем наследстве Византийской и Османской империй уже в середине XIX в. превратился в узел международных противоречий. Российский публицист и историк, крупнейший представитель российского евразийства XIX в. К. Н. Леонтьев также оставил ряд научных трудов, посвященных решению Россией Восточного вопроса, основным из которых, является работа «Византизм и славянство». В целом, научные взгляды К. Н. Леонтьева получили подробное отражение в работах российских историков, среди которых наибольшее научное признание получили работы советского историка Н. А. Рабкиной [6, 7]. Подробно раскрытыми в отечественной историографии являются и вопросы, связанные с развитием концепции «византизма» К. Н. Леонтьева, что позволяет не останавливаться подробно на этой проблеме в тексте данной статьи и сразу перейти к рассмотрению проблемы Восточного вопроса в работах К. Н. Леонтьева.
К. Н. Леонтьев в отличие от Н. Я. Данилевского обоснованно полагал, что активное участие России в решении Восточного вопроса путем разрушения Османской империи станет непоправимой ошибкой и, напротив, следует сохранять ее существование, пока не представится подходящий случай для решения Восточного вопроса. Весьма скептически К. Н. Леонтьев оценивал и передачу спорной территории Добруджи Румынии, справедливо полагая, что этот шаг оттолкнет болгар от России и направит их к союзу с Австро-Венгрией. Критически К. Н. Леонтьев относился и к односторонней поддержке Россией сербов на Балканах.
Фактически К. Н. Леонтьев приходит к выводу о том, что не решение исторической задачи Российской империи по выходу к проливам Босфор и Дарданеллы обеспечит стране могущество, а именно тесный союз с Балканскими народами из которых именно болгары могли бы стать, по его мнению, самыми преданными союзниками. Не видел К. Н. Леонтьев и немедленного решения Восточного вопроса военными методами, акцентируя внимание на развитии долговременной стратегии оказания помощи славянским народам. И лишь с решением этой задачи становилось возможным открытое военное противостояние с крупнейшими европейскими державами в лице Англии и Австрийской империи.
При этом К. Н. Леонтьев верил в возможность соглашения с Германией, указывая, что между двумя странами нет неразрешимых противоречий, в то время как основными соперниками России являются Австрия и Англия. К. Н. Леонтьев указывает на то, что без Царьграда (Константинополя – ) не будет славянского единства и Россия не сможет реализовать своего исторического предназначения по объединению Балкан. «…поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию», – отмечает К. Н. Леонтьев в своей работе «Письма о восточных делах» [4: с. 434]. И далее поясняет, что решение исторической задачи лежит через скорую войну с Австрией или Англией: «Скорая и, несомненно (судя по общему положению политических дел) удачная война, – полагает К. Н. Леонтьев, – долженствующая разрешить восточный вопрос и утвердить Россию на Босфоре, даст нам сразу тот выход из нашего нравственного и экономического расстройства, который мы напрасно будем искать в одних внутренних переменах. …новая прочная организация на старой почве и из одних старых элементов становится невозможной. Нужен крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания, а главное, необходим новый центр, новая культурная столица» [4: с. 435]. Прим. авт.
Такой столицей, по мысли идеолога евразийства, для всех славянских народов, может быть только Константинополь, являющийся символом православия и единения славян. При этом К. Н. Леонтьев исходит из такого понимания укрепления России на Босфоре, при котором Константинополь не будет политической, но духовной и культурной столицей. «… он не должен быть частью или провинцией Российской империи. Великий мировой центр этот с прилегающими округами Фракии и Малой Азии (напр. до Адрианополя включительно и вплоть до наших теперешних границ около Карса) должен лично принадлежать Государю Императору; т. е. вся эта Цареградская или Византийская область должна под каким-нибудь приличным названием состоять в так называемом „union personelle“ (личном соединении – ) с Русской Короной» [4: с. 435]. Реализация подобного плана по мысли К. Н. Леонтьева фактически приведет к падению роли Санкт-Петербурга как столицы русского государства и к возрождению роли Киева как новой столицы Российской империи, тогда как второй столицей – центром Великого Восточного союза станет Константинополь. Прим. авт.
К. Н. Леонтьев указывает, что это «единственно возможный исход» решения Восточного вопроса для России, но для решения великой исторической задачи неизбежно военное столкновение с Австрийской и Британской империями. «…если бы я был призван советовать, то я бы даже посоветовал довести их поскорее до этого. И лучше бы все-таки начать с Австрии; ибо тогда одно чувство самосохранения дало бы нам нравственное право направить из Карса войска к Босфору. Воюя с Австрией, мы имели бы полное право позаботиться, чтобы нашей армии никто не угрожал с юга» [4: с. 436—437]. Как тут не вспомнить написанную много позднее записку «Подготовка к войне в политическом отношении» российским военным министром А. Н. Куропаткиным, который в 1912 г. указывал, обращаясь к событиям Крымской войны: «Отсутствие открытых союзников у России и враги явные не принесли нам столько вреда, сколько предполагавшиеся с нашей стороны враги тайные, в особенности Австрия. Положение, занятое Австрией, казалось Государю Николаю I и фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу настолько враждебным России, возможность вооруженной борьбы с нею одновременно с борьбою с союзными державами представлялось настолько очевидною, что мы главную массу своих войск имели не против врагов явных в Крыму, а на западной границе против держав, предполагавшихся нашими врагами тайными» [8: Л. 49].
Предвидя возможную «нейтрализацию» Константинополя в случае распада Османской империи, т.е. превращения бывших византийских земель в территории, находящиеся под совместным управлением европейских держав К. Н. Леонтьев видел главную угрозу осуществлению главной задачи России, т.к. именно это было способно привести славянские земли еще к большей разобщенности и спровоцировать наиболее острые конфликты между бывшими вилайетами (провинциями – ) Османской империи. Обладая даром исторического предвидения, К. Н. Леонтьев справедливо полагал, что раздел территорий Османской империи приведет к еще худшим для России последствиям, чем неудачная Крымская война или долговременная внешнеполитическая изоляция России, т. к. решение Восточного вопроса с превращением Российской империи в мировой центр притяжения славянства станет неосуществимой. Прим. авт.
Главный вывод работы К. Н. Леонтьева «Византизм и славянство» – в том, что славянство без византизма не имеет, ни идейной, ни политической силы и лишь православие придает русской истории миродержавное значение и смысл в масштабах Евразии. Без этого российская цивилизация не смогла бы стать монолитом и центром притяжения для других народов, тогда как Н. Я. Данилевский видит в этом лишь корень антагонизма и идейного несходства с Западом и больше говорит об экспансии Европы против России, утверждая, что русская цивилизация молодая. К. Н. Леонтьев, напротив, говорит, что российская цивилизация не моложе западной, но Запад идет к своему закату из-за господства материалистических идеологий. Этот тезис получил наибольшее обоснование в очерке К. Н. Леонтьева «Средний европеец как орудие всемирного разрушения» [4: с. 488—571], где автор приходит к выводу о духовной гибели Запада с развитием феномена массовой культуры. Россия также может повторить духовный кризис западной цивилизации, если не сможет по К. Н. Леонтьеву реализовать своей исторической задачи и стать центром мирового славянства. Единственный путь к этому по К. Н. Леонтьеву состоит в том, чтобы решить Восточный вопрос и укрепиться на берегах Босфора. Таким образом, решение великой исторической задачи – Восточного вопроса является своего рода защитным механизмом от кризиса и культурного порабощения России западными идеями – капитализмом и его противоположностью – социализмом. Взгляды К. Н. Леонтьева во многом опередили свое время, а его работы не потеряли своей научной актуальности и сегодня, когда очертания Восточного вопроса в современных исторических условиях вновь стоят перед Россией.
Литература
1. . Первая мировая война: дипломатическая предыстория, крупнейшие военные операции и внешнеполитические итоги. Монография. М.: Спутник, 2016. 257 с. Болтаевский А. А., Прядко И. П., Агуреев С. А
2. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало ХХ в. / Отв. ред. Н. С. Киняпина. М.: Наука, 1978. 440 с.
. Россия и Европа. СПб.: Глаголь, 1995. 514 с. 3. Данилевский Н. Я
Византизм и славянство: сборник статей. М.: АСТ; Хранитель, 2007. 571 с. 4. Леонтьев К. Н.
Россия и русские в мировой истории. М.: Международные отношения, 2004. 536 с. 5. Нарочницкая Н. А.
«Византизм» Константина Леонтьева // История СССР. 1991. №6. С. 28—44. 6. Рабкина Н. А.
. Исторические взгляды К. Н. Леонтьева // Вопросы истории. 1982. №6. С. 34—48. 7. Рабкина Н. А
8. Российский Государственный Военно-Исторический Архив. Ф. 165, Оп. 1, Д. 1803. Л. 49.
1.3. Поиск беловодья как одна из причин освоения русскими Сибири (Бирич И. А., Тебелев И. C.)
Идеи «евразийства», изучение самобытности национальной культуры у русских философов в условиях зарубежья не возникли на пустом месте. Всю вторую половину ХIХ и начало ХХ вв. русская мысль формировалась под воздействием идей славянофильства и патриотизма. Жаркие дискуссии с западниками о самобытности русской истории и культуры подкреплялись открытиями в области изучения устного народного творчества, перевода его феноменов во время филологических экспедиций в письменную форму. Начиная со сборников обрядовых народных песен, издававшихся П. Киреевским в 1860-е гг., русских народных сказок, пословиц и поговорок, опубликованных А. Афанасьевым в 1855—1863 гг., литературных сказок А. Пушкина, П. Ершова, К. Аксакова, поэтически обработавших народные сюжеты, глубокий интерес к народному сознанию вылился в известный четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля, который тот, с благословения А. С. Пушкина, готовил более 40 лет [5]. Он включал в себя 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц и поговорок.
Было также исследование А. Потебни (середина 1860-х гг.), посвященное философии языка и мифа, существовавшего в народе в устной форме. Сюда же надо присовокупить издание этимологического словаря русского языка А. Преображенского (1910—1918), согласно которому 40% собственно русских корней имеют санскритское или тюркское происхождение [10], подтверждая индоевропейский источник восточнославянского языка и сознания [4]. В свете данных исследований представление о Родине приобретало весьма расширительный характер, намного превышающее представление о ней только в границах государства. Одни философы рассматривали Россию как главного участника движения народов к богочеловечеству (В. Соловьев), другие – как важную единицу космического мира (Н. Федоров, К. Циолковский).
Удивляло распространение и схожесть сюжетов устного народного творчества, декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора по всей стране – от украинских степей до сибирских рек, лесов и гор. Значит, были носители русского сознания, мигрировавшие с запада на восток. Официальное освоение русским государством пространств Западной и Восточной Сибири началось во второй половине ХVIII в., но ее постепенное заселение русскими фактически началось за 100 лет до этого. Этими русскими были православные люди, крестьяне, но с особым типом религиозного сознания.
Далее мы считаем необходимым немного коснуться истории раскола русской церкви и зарождения такого явления, как старообрядчество в ХVII в.
Причины раскола зародились задолго до реформ патриарха Никона. К середине XV в. псковский игумен Евфросин совершил поездку в Константинополь, столицу Византии, целью которой было выяснение некоторых тонкостей православного богослужения. Утвердившись в правильности совершаемого на Руси обряда и вернувшись в монастырь, Евфросин стал распространять константинопольские правила богослужения. В итоге после споров подобный порядок был принят на соборе 1490 г. при Иване III [6: с. 91]. На другом соборе 1504 г. обсуждались разногласия между игуменом Волоцкого монастыря Иосифом и известным на Руси преподобным старцем, насельником Заволжских пустынь Нилом Сорским. Спор шел о «материальном нестяжательстве» как о задаче религиозной организации. Стяжать нужно дух, но не богатство, по уверению последнего. Собор поддержал Иосифа Волоцкого, а многочисленные скиты позже были разорены Иваном Грозным. Насельники бежали на север [11: с. 186].
Никон, получивший патриарший престол во 2-й половине ХVII в. уже при другой царской династии, поставил перед собой как одну из своих целей исправление противоречий, накопившихся в богослужении после смутного времени польско-литовского нашествия на Русь и отразившихся в церковной литературе того времени. Церковная реформа была необходима для создания единства церкви, церковного обряда, что крайне важно для единого государства, в которое вернулись русские западные территории Украины и Белоруссии и которое могло теперь претендовать на выполнение миссии быть русской православной державой. Никон возглавлял группу людей, в которую входили сам царь Алексей Михайлович Романов, его сподвижники (включая протопопа Аввакума), для достижения в стране «истинного благочестия».
Все понимали, что церковная реформа нужна и все на это соглашались. Однако действовал Никон единолично, не обсуждая детали реформирования обряда и не получая на это согласия своих единомышленников и массы служителей церкви. Никоном была собрана комиссия из монахов, состоящая из выходцев с Украины, которые владели латынью и греческим, с целью исправления неточностей в церковных книгах. Эта работа заняла несколько лет.
В 1653 году указом патриарха реформа была утверждена. И сразу же члены царского «общества любителей благочестия», протопопы Даниил и Аввакум подготовили челобитную для царя о некоторых сторонах православного ритуала, которые имели многовековую христианскую практику с VII века и от которых отказываться было никак нельзя. Челобитная была проигнорирована, активно внедрялись новые порядки, противники которых были подвергнуты анафеме и провозглашены как отступники православной веры. Но Аввакум не сдавался. Так началась многолетняя борьба за верность «древнехристианским принципам» и «старому православному обряду» между Аввакумом и Никоном, Аввакумом и царем.
Очередной собор 1666 г., созванный Алексеем Михайловичем, спорщиков не примирил. И Никон, и Аввакум были отправлены в ссылку – один в Ферапонтов Белозерский монастырь простым монахом, другой – вглубь Сибири протопопом с отрядом казаков с проверкой пограничных застав. Оба продолжали писать письма и проповедовать в них свои идеи. У Аввакума проявился могучий литературный дар и духовный темперамент, поддерживающий у своих единомышленников силу духа и верность старой вере. Официально исправленные книги были признаны единственно верными, а старые (рукописные) необходимо было уничтожить по указанию церкви и власти. Не все признали данные действия правильными, Аввакум призывал старые книги сберечь. Отрицающих реформу стали называть старообрядцами. 1666 год был объявлен Аввакумом годом прихода на Русь Антихриста в образе патриарха Никона.
Новый юный царь Федор Алексеевич решил разрубить этот узел: он возвращает из ссылки Никона в статусе патриарха (он, правда, в пути умирает), а Аввакума «со товарищи» отдает указ посадить в земляную тюрьму, находящуюся в Пустозерске, в Заполярье, отрубить им языки. Вскоре они были сожжены – единственный костер в религиозной истории России по велению сверху, но не последний по решению самих старообрядцев.
Как закономерное следствие этих действий произошло разделение российского общества на приверженцев реформы Никона и противников её. Этот религиозный раскол стал потрясением для всего общества, так как носил глобальный характер, затронувший все слои общества – от беднейшего крестьянства до царского дворца.
Соловецкий монастырь был точкой сбора старообрядцев, так как его игумен Илия не признал новые книги. После нескольких осад монастыря правительственными войсками монастырь был покорен (не без помощи предателей, которые тайно открыли ворота). Монахи разбежались. В итоге старообрядцы по всей центральной России были вынуждены бежать на окраины, где малое количество царской армии не помешает им соблюдать старый церковный уклад. Но даже в этих местах правительственные силы окружали старообрядческие селенья и вынуждали людей переходить в «исправленную веру». Многие сопротивлявшиеся такому порядку принимали решение о самосожжении за свою веру. Исследователи утверждают, что больше двадцати тысяч людей по всей стране предпочли сгореть и около 10% населения страны не признали данную реформу [6: с. 142].
Неправильно считать старообрядчество единым течением внутри православной религии. В нем существовали разные группы, отличавшиеся трактовкой, растолкованием разных положений культового характера, но не догматического. Разделение старообрядчества на несколько «толков» стало обозначаться в конце XVII в. из-за естественных смертей священников, получивших свой сан ещё по старым правилам. Те группы, которые отвергли возможность признания новых священников, стали называться беспоповцами, а те, кто сохранил преемственность священнослужителей, – поповцами. Также спорным вопросом было разрешение священнику жениться: например, древлеправославная поморская церковь, собранная вокруг Соловецкого монастыря, принимала такую возможность, а федосеевцы (отсоединившиеся от них) исключали такую возможность [3].
Как пример старообрядческого «толка» стоит рассмотреть течение «бегунов». Одно из них основывает Евфимий родом из Переславля-Залесского, и основной его целью является бегство от царства Антихриста, коими объявляются патриарх Никон и пришедший к власти в результате церковного попустительства царь Петр I. Так как, по его словам, бегунам «достоит таитися и бегати», сотни старообрядцев решили переселиться вглубь страны, уйти в добровольную ссылку в Сибирь [13: с. 246]. Бегуны презирали государственные символы и потому даже не брали с собой денег, на которых можно было найти российский герб, а также изготовляли самодельные паспорта. Не все из бегунов странствовали – некоторые только принимали у себя бегунов, что также засчитывалось им как «путешествие».
Бегуны относились к беспоповцам, а также не признавали брак у священников. Выделение их из филипповского толка в XVIII веке было связано с наиболее радикальным неприятием мира, в котором, как они полагали, нет возможности для спасения души. Бегуны отказывались от связей с властью в большинстве проявлений, например, они не имели паспортов, не участвовали в переписке. У них отсутствовало недвижимое имущество и постоянное место проживания. Обосновывалось это тем, что подобные вещи имели «печать антихриста».
Интересно их отношение к деньгам, их дозволялось иметь, так как деньги переходили из рук в руки, таким образом, у них не было своего рода собственника (впрочем, бегуны-«безденежники» также существовали). В случае взаимодействия с властями они представлялись как люди, не помнящие своего родства. Таким образом, бегуны были вынуждены вести странствующий образ жизни. Эти люди именовали себя как «истинно православные христиане странствующие». К середине XIX века основная масса бегунов стала воспринимать антихриста как явление духовное, что, впрочем, стало характерно для всего старообрядчества.
Куда же бежали крестьяне-старообрядцы? Конечно, в поисках рая.
Старообрядческая легенда о русском рае – Беловодье – впервые возникла в XVII веке. Своими корнями она восходит к мистическим топосам славян – раю-ирию, находящемуся в мире Прави древних русичей, к «Сказанию об Индийском царстве», переведенному в наших монастырях с греческого на древнеславянский в ХIV в., и невидимому градуКитежу, под сенью которого спаслись от вражеского нашествия православные люди, крепкие своей верой.
Особенно внятно как письменный источник звучит здесь «Сказание об Индийском царстве» [7]. Оно описывает праведную страну, которой правит царь-священник, пресвитер Иоанн, заступник христианской веры. Славянский извод «Сказания» представляет рассказ о том, как греческий царь Мануил послал своих послов в индийскую землю к царю Ивану с «вопрошанием о чудесах его земли» и получил ответ: «У меня великолепные дворцы, плодородная земля, диковинные звери и птицы, реки, несущие множество рыбы, река Гедеон, текущая прямо из рая… В моем царстве небо с землею соткнулося…» [7: с. 100—103; 2: с. 251—254].
В фольклоре Беловодье характеризуется как чудесная страна свободы, без бедных и богатых, без крепостного права и преступников, оплот веры православной, в которой живут одни лишь праведники. В представлении старообрядцев Беловодье – рай на земле, войти в который может только тот, кто чист душой. Беловодье называли Страной справедливости и благоденствия, но насчет того, где она находится, люди точно не знали. Страна Белых Вод была открыта только для добродетельных людей, и находилась она по разным версиям на Крайнем Севере, «в Поморье, от реки великой Обь до устья Беловодной реки», на Урале, в Сибири, а также на Алтае.
Важнейшие источники для изучения истории легенды о Беловодье – «путешественники», тайные листки, писанные крестьянской рукой и распространявшиеся довольно широко. В книге «Путешественник», написанной старообрядцем Марком, встречается упоминание о нахождении Беловодья. Его путь начинается в Москве, проходит через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, далее монах оказывается в алтайских деревнях, идет через Китай к «окияну», в котором на «Опоньском» острове находится Беловодье, заселенное православными «ассириянами» (сирийцами) и русскими. Земля эта упоминается также в связи с тем, что на нее никогда не придет Антихрист. Характерно, что Беловодье мыслится как страна, заселенная выходцами из разных народов, бежавших от религиозных преследований – от Папы Римского, от Никона, от Магомета, от «пана худого» [13: с. 258, 259]. Впервые отдельные тайные листки стали известны правительству в 1825—1826 гг. Наиболее напряженные поиски Беловодья приходятся на 1850—1880 гг. Именно в это время легенда активно развивается и по сути, и по географии.
На данный момент считается, что реальным прообразом волшебной страны был Бухтарминский край (в народе – Камень) в Горном Алтае: именно там жили староверы, ушедшие на восток после гонений царя Федора Алексеевича. Место, где обитали так называемые «каменщики», беспоповцы поморского согласия, а также жившие вместе с ними беглые каторжники и крестьяне, называлось Беловодьем.
Там они жили без барского присмотра, отличительной особенностью поселений каменщиков была удивительная чистота на улицах и особая раскраска фасадов построек. За воровство и ложь старообрядцы могли выгнать из общины, жили они большими семьями по 15—20 человек, не курили и не пили, строго соблюдали каноны православной веры, учились грамоте, чтобы читать привезенные рукописные книги, и с малолетства занимались тяжелым крестьянским трудом. Хотя надо сказать, что почвы в долинах там плодородные, солнечных дней в году больше половины, летом вызревают виноград и арбузы.
Возможно, что именно такая жизнь, островок свободы и чистоты, как материальной, так и духовной, и стал прототипом для создания сотен легенд о волшебном Беловодье. А молочные реки и кисельные берега стали лишь символическим воплощением образа чистоты православной веры и высоты нравственных помыслов. Недаром самая высокая вершина Горного Алтая носит имя Белуха, а озеро, образованное ее ледником, источник реки Катуни зовут на местном языке Аккем – Белое озеро. Оно действительно белое, так как дно у него известковое, но вода чистейшая, прозрачная и вкусная.
Алтай не входил в состав Российской Империи до 1791 года. После указа Екатерины II жители Алтая были объявлены «ясашными инородцами», с обязанностью платить ясак, но свободными от всех других повинностей, включая подчинение местной администрации, и от поставления рекрутов. В таком свободном состоянии русские на Алтае прожили около 100 лет. В 1878 г. все их льготы были ликвидированы. С этого времени началось научное изучение образа жизни старообрядцев, их мировоззрения.
Вернемся к началу статьи. Кроме исследования народного фольклора, в последней четверти ХIХ в. и в начале ХХ в. прослеживается активный интерес писателей, историков и этнографов к географии распространения старообрядческих общин, опережающего официальное закрепление новых земель за российским государством [8; 14].



