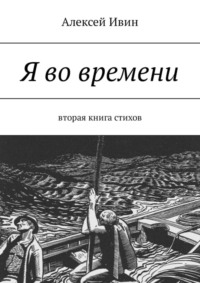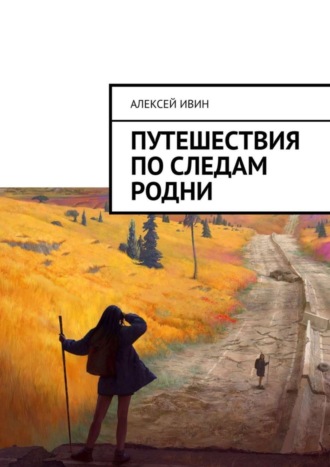
Полная версия
Путешествия по следам родни
От Кичменгского Городка шоферы сменились: предстояла последняя, самая протяженная и безлюдная часть пути, вдоль живописного Пыжуга и Шарденьги, на север, к слиянию Сухоны и Юга. Я был доволен, что мой план удался и в одни сутки я оказался за тысячу верст от Москвы и продолжал от нее удаляться. Есть же несчастные сынки богачей, у которых денег куры не клюют, а они сидят в каком-нибудь мрачном притоне и курят марихуану. Вперед, вперед! Я от души радовался настойчивому безостановочному движению автобуса и размышлял, не достанет ли денег заглянуть в один совершенно глухой медвежий угол, где когда-то учительствовала моя бывшая жена. Как же называется станция жэдэ? – бился я в безуспешных воспоминаниях. – Шиченьга? Урдома? Уфтюга? Господи, да там всего полтора лесных барака, и прямо от рельсов в глубь тайги узкая бетонка – километров двадцать среди сплошных болот… Заборье? Залесье? Раменье? Надо справиться в расписании поездов. Вот бы где поселиться поэтической душе… К сожалению, если туда ехать, исказится замысел марш-броска. Так что в другой раз. Удима? Улома? Кизема?
Еще сидя (томясь) в московском заточении, я обдумывал совсем другой маршрут: через Буй, Галич и Шарью, – сладостно обдумывал, прямо-таки смаковал, как от Шарьи двинусь пехом строго на север по грунтовке и через трое-четверо суток достигну Никольска. Этот маршрут был привлекателен тем, что на карте было отмечено совсем немного деревень – с расстояниями в пятнадцать – двадцать пять километров между ними. По прикидкам оказывалось, что денег хватит как раз на железнодорожный путь до Шарьи. Полный тука в теле и страхов в голове, я живо представил, как наряд милиции арестовывает меня в Пыщуге как бомжа и беспаспортного бродягу, и вместо счастья я обретаю унижения и кучу проблем. «Зачем? Почему? Куда вы направляетесь? С какой целью? Какая организация вас направила в командировку? Не знаю никакого Союза литераторов. Вы ели пистики при дороге и украли из огорода гражданина Костромина связку репы – и мы вас задержали для выяснения личности». Отказавшись от этого маршрута, я был не совсем доволен, что пришлось вновь проделать сто раз знакомый путь до Тотьмы, и чтобы восполнить чувственный голод, продолжал думать, что еще выйду, где захочу. Но не захотел, потому что стратегическая задача путешествия заключалась в молниеносности обега обширной территории с возможной рекогносцировкой в Устюге. Я не сидел в правительстве и в Думе и не мог позволить себе, ткнув наугад пальцем в глобус, заказать себе туда билет, но зато и ответственности на себя не брал ни малейшей, кроме как за свою жизнь.
У некоторых северных городов и поселков есть хорошая особенность: железнодорожные вокзалы и автобусные станции вынесены за городскую черту. Ты спускаешься на выщербленную платформу в окружении нескольких коричневых будок и приземистого белого станционного здания, поезд уходит, пассажиры рассыпаются, как ртутные шарики, и ты остаешься в одиночестве посреди зарослей ольхи сразу за полотном. Тишина после вагонной качки такая, что тревожно на душе, подступает приятная сонливость – хочется, не заходя в вокзал, лечь на травке на взгорке и заснуть. Сложность только в том, что ты еще вымуштрованный горожанин и помнишь об одежде, что она пачкается, а то бы так и лег. После городской суеты, в которой тобою двигают, здесь ты точно столбенеешь на полчаса, потому что направление движения приходится выбирать самому: вокруг ни души. Да и дорог, похоже, нет, только шпалы в обе стороны.
Ту же космическую пустоту я ощутил, выйдя на станции в Великом Устюге. Модерновый куб вокзала с широкими асфальтированными подъездами был в этот вечерний час пуст, точно вакуум-насос, а широкие, во всю стену, окна придавали ему немного сходства с аквариумом. На недостижимый взгляду верхний ярус вела узкая мраморная лестница. В окошках касс везде были опущены шторы. Ни души. Так чувствует себя крольчонок, когда клеть, из которой он выпал, унесли. Разреженный воздух сквозил и мерцал, предвещая белую ночь. Пишу, читаю без лампады. Мне было очень хорошо, главное оттого, что город был где-то рядом, а я туда разыскивать знакомых не пойду. Пригородный поезд на Котлас идет в пять часов сорок минут утра. Вот и отлично, заночую здесь, в креслах, рыбные фрикадельки в томатном соусе вскрою перочинным ножом, а потом пущу в ход чайную ложку: китайцы едят и палочками. Я скоро ознакомился с новой обстановкой, заглянул повсюду, вышел на платформу, потом вернулся и поднялся на верх. Там стояли ряды деревянных кресел с изогнутыми спинками и куцыми подлокотниками, стоял автомат по продаже почтовых открыток. Я подошел к окну, обращенному к путям, и тут взору предстало что-то давно знакомое. Дежа-вю. Показалось, что когда-то я уже стоял возле этого окна, а по крыше низких бетонных сараев бродили, переговариваясь и попинывая вытяжные шкафы с козырьками шалашиком, эти же двое путейцев, один в свитере, другой в брезентовой куртке. Словно я совершил вневременного межзвездного кругаля и через двадцать два года оказался в той же точке с теми же координатами. Я именно что вошел дважды в одну и ту же реку, как телефонистка вставляет штекер в то же гнездо для того же междугороднего разговора или как две оси координат пересекаются в одной точке. Страннее всего, что я не ощутил себя убывшим по массе и мирочувствию по сравнению с первым попаданием сюда, а это, говорят астрономы, даже с кометой неизбежно случается: что-то она там теряет, пока ее носит. Страха не было, но я чуть отступил от подоконника, чтобы чувство прямого попадания видоизменить. Потом я, правда, снова пришатнулся, как бильярдный шар на неровном сукне, и в этом положении подумал, что раз вышел на ту же дорогу, то теперь надо бы избежать прежних ошибок. Может быть, им нужны путевые обходчики или где-нибудь есть лесное урочище и там требуется егерь? От представления об егере мысль обратилась к представлению о сухом и редком боровом лесе, который здесь рос двести лет назад, и если бы я провалился туда, пусть даже в неудобь, в барсучью нору, вот это было бы подлинное чудо, свидетельствующее о чудесном устройстве мира. Мне так захотелось, чтобы на месте вокзала шумели сосны, что я почувствовал досаду. «Ничего-ничего, ты не сумасшедший, – успокоил я себя. – Просто объективного по количеству больше, и оно остается на том же месте, где было… Ага, по-твоему, и эти мужики подгадали через столько лет забраться на крышу, нимало не постарев, как только ты тут объявишься. Сараи – да, рельсы, клумбы – да, но никак не мужики. Зачем приезжал-то сюда в тот раз, не помнишь?»
Странное ощущение и внутренний диалог длились недолго и без интенции, потому что сразу же вслед за этим я бесцельно побрел вдоль кресел, потом, по слабому любопытству, к двери в конторку транспортной милиции, потом вниз проветриться. Ждать было еще очень долго, время приобрело ту суровую пространственную медлительность, которую оно имеет в безлюдных местах.
Через час наверху в зале ожидания появился старый нищий в обтрепанных брюках и в развалившихся замшевых ботах на босу ногу. Устроившись в креслах, он развернул газетный сверток и начал уписывать помидоры с хлебом. Покончив с этим, он отыскал возле мусорной урны хороший окурок и с видимым удовольствием закурил. Мы были вдвоем, но места хватало, так что заговаривать и знакомиться мы не стали. Ближе к утру появился еще народ. Один из выступов боковой стены был обшит дубовыми панелями – хорошая лежанка, не уже односпальной кровати; я устроился там, подложив сумку под голову, и удобно провел ночь. Проводить рекогносцировку Великого Устюга теперь совсем не хотелось, и, засыпая, я мечтал, как, вернувшись в Москву, переночую на чистых простынях, а наутро опять разверну подробную топографическую карту Вологодской губернии и намечу новый маршрут. В почтовом ящике, уж точно, найдется к тому времени денежный перевод откуда-нибудь. А нет, так сниму остатки со сберкнижки: все равно инфляция съест.
Остальной путь запомнился только страхом контролера: отсюда до Котласа я ехал зайцем, чтобы достало денег на поездку Котлас-Москва. Но все обошлось. Гуляя по привокзальной площади в Котласе, я немного томился совестью, потому что отсюда в город, где жила сестра, то и дело отправлялись автобусы и пригородные поезда. Но я понимал также, что, оказавшись совсем рядом с ней, могу быть втянут в орбиту общения, а это было уж совсем лишнее, потому что на путях ее жительства и передвижений я побывал и дистанционно пообщался. Кому мое поведение покажется чудным, готов кое-что объяснить на примерах. Если вы выросли в доме из семи комнат и пяти спален, то с юности у вас вряд ли возникнет чувство, что вас выставляют за дверь и вытесняют, но когда вы лет до двадцати вчетвером ютитесь по существу в одной комнате, вы легко получите в зрелом возрасте мои проблемы. Сидя в своей холостяцкой комнате в Москве, я физически ощущал некий страх и переполнение, вынуждавшие меня переместиться подальше оттуда. Думаю, что европейские и американские туристы из людей постарше меня бы поняли. Прежние летописцы сообщали об этом примерно так: «Был голос с неба, и он возвещал: «Ступай в Дельфы, вопроси оракула о течении дней своих…» Или так: «И Господь вывел его из Москвы и поставил на стогнах Пантекапеи, у мраморных колонн храма Афины-Воительницы…»
Я еще был испуган и от а р т е р и и, которая сообщалась с Москвой (то есть, от шоссе и железной дороги), далеко не отлучался, чтобы успеть шмыгнуть в эту артерию, чтобы меня, как кровяное тельце, по ней доставили в сердце страны. Людей я боялся больше, чем природу, но отрешиться от них еще не мог. Я чувствовал, что еще не раз придется возвращаться в Москву и уезжать из нее, пока я не обрету спокойствие. Так хороший охотничий пес за ночь не раз встает и, повертевшись, вновь укладывается, свернувшись в клубок, – для новых сновидений и лучшего комфорта. Полный тревоги, я стоял на берегу полноводной реки, рядом с пивным павильоном, и вертел в руках пук желтого донника. Свинцовая река двигалась меж берегов мощно, упорно, словно впереди ей уже мыслилось Белое море и Ледовитый океан, куда она с нетерпением вольется. Донник пах так щемящее, пачкая мой нос желтой пыльцой, что я решил его увезти и засушить. Это было единственное, что я взял из этих мест; остальное оставалось пребывать.
УСТЬЕ – СОКОЛ – КАДНИКОВ

город Кадников
Есть игра, знакомая переводчикам, специалистам в области семантики и семасиологии. В мозгу у переводчика Йенс Петер Якобсен сразу преображается в Ивана Петровича Яковлева, а город Елгава – в Олегов. Игра небесплодная, но свидетельствует о расщеплении сознания. В эту игру до конца сыграл Джеймс Джойс (Жуайёз), но для здоровья она, точно, вредна. Тем не менее, от излишней начитанности я в нее поигрывал, и родной поселок становился для меня понемногу Майклтауном или даже Мишель-сюр-Суоном. На автобусном вокзале в Вологде я в очередной раз решал, как бы направиться к нему, но не доехать. Во всяком случае, не так скоро доехать.
Меня очень манил север и северо-запад губернии, неисследованные места, но мотивом психологической адаптации оправдывалось посещение все-таки уже освоенных земель. Было досадно, что предстоит уже накатанный путь, но денег было опять в обрез, и утешение состояло в том, что на этом накатанном пути в любом пункте можно было выйти и попутешествовать в неизведанном направлении. Так я и поступил, купив билет в Устье-Кубенское, поселок неподалеку от Вологды. Мотив был еще тот, что на сей раз я таким образом собирался избавиться от одного своего друга, который меня вовлек в грязную историю. Друг этот жил в Москве, но родом был из тех мест, мимо которых пролегал мой путь. Побродяжив возле его родных мест, я тем самым избавлялся от его влияния на меня – дурного, пагубного влияния, снимал его порчу со своего астрального тела. Анимизм такого рода верования кому-то покажется нелепым, но в моем случае он срабатывал. Я слишком много думал об этом недостойном обормоте, и мне захотелось, чтобы он из моей жизни исчез, как не бывало.
Вест недолгий путь в жестком трясучем автобусе и на остановках я наблюдал, как девочка-подросток забавляется со здоровенной колли (то подаст ей палку, то заставит прыгать), покупал пирожки и лимонад, а когда миновали город Сокол, углубился в рассматривание пейзажей за окном. Пейзажи были сельские, милые, полевые, но местность до того ровная, низменная, плоская, как стол, что пришлось даже пожалеть, что сюда заехал. Только и промелькнуло живописной отрады, что короткоствольный борок да мост через реку Кубену сразу за ним. Река была до того хороша, широка и мелка, что мечталось тотчас пойти по ней с удочкой и чтобы сапоги -бродни натягивались до подмышек.
Устье основано в 1260 году на берегу длинного озера Кубенское, в нем есть кое-какие народные промыслы и деревянное зодчество. Озеро даже по форме (впрочем, только по форме) напоминает Байкал – Байкал европейской части России, и в него также впадает множество рек, а вытекает только одна – Сухона. Я торчал там восемь часов и чуть не помер со скуки. В редакции сказали, что есть избы на продажу, и я ходил осматривать одну – прямо в центре, на тихой травянистой улочке вдоль оврага. В половодье в устье Кубены бывают заторы, вода поднимается по оврагу, и прямо с крыльца можно садиться в лодку. Комнаты показались мне крошечными, окна – невзрачными, но под полом и во дворе было много сараев, клетушек, хлевов, двадцать соток земли и буйная малина, которая так и висела вся неубранная (я поскорее набил ею рот). Сосед, крепкий старик, не торопясь, показывал все эти службы и нахваливал здешнюю жизнь. Я вел себя как правомочный покупатель с пятьюдесятью миллионами в кармане, и от этого надувательства мне было неловко. Наследники-распорядители этого дома, три брата и сестра, рассосредоточились по всей России, но я прилежно записал их адреса, тешась будущей надеждой жизни в столь привольном уголке. Мечтать не вредно, а у такого бедняка, как я, мечты ходят вместо денег: я ими расплачиваюсь.
Пока суд да дело, оказалось, что рейса на Вологду сегодня уже не будет. В вокзальчике, холодном как мертвецкая, какой-то паренек лет десяти то и дело прикладывался к бутылке портвейна «три семерки» и курил сигарету за сигаретой – так независимо и уверенно, что у меня глаза на лоб полезли. «Чего зря веньгать, – сказал он мне. – Я до Василёва еду. От Василёва повёртка есть, а там автобус до Харовска. Если тебе до Харовска. А если до Вологды, так вечером сюда из Сокола приходит – на нем доберешься. Дашь две сотни – сейчас налью». – «Иди ты, гаврош устьянский», – огрызнулся я и вышел.
Три часа я просидел недвижим на лакированной низкой банкетке в детском сквере, наблюдая, как лениво и по одному со всех переулков мимо проезжают мужики с граблями, мальчишки с удочками, бабы-дачницы в штанах, заправленных в сапоги, – все на велосипедах всевозможных цветов и марок. От мелькания серебристых спиц на вечернем солнышке рябило в глазах. Мне даже стало мерещиться, что я в провинции Фуцзянь и вот-вот прямо по курсу покажется толпа веселых озорных китайцев на велосипедах, вздымая длинного бумажного дракона и трезвоня что есть мочи. За все это время проехал только один автомобиль – вишневые «жигули», зато от велосипедов просто не было спасу. Вечерело. За спиной меж домов блестело озеро.
А не остаться ли здесь насовсем? Да, но где жить? Они скорее ее сожгут, чтобы получить страховку, чем пустят тебя под крышу, а в собственность тебе ее никогда не приобрести. Пятьдесят миллионов – где ты их возьмешь? Что за собачья жизнь – тебе же на пятый десяток!..
Путешествовать через Харовск и Сямжу, и непременно пешком! – я решил в другой раз, когда какому-нибудь редактору удастся преодолеть зависть и трусливую дрожь в коленках и порекомендовать к печати мою книгу, а пока что взгромоздился в комфортабельный «Икарус», до того пустой, что показалось, что его подали специально для меня. Даже этот мальчуган до Василёва отчего-то не поехал, и только перед самой отправкой в салон села толстая тетка с большой драночной корзиной, обвязанной поверху клетчатой шалью.
Тронулись.
На станции в Соколе, когда я с рюкзаком, хорошо укрепленным за плечами, спрыгнул наземь, ко мне, поигрывая ключами, лениво подвалил толстомордый таксист – с намерением подбросить до Вологды за пятьдесят тысяч. «Мне ближе», – соврал я, чтобы отвязаться: так и представилось, что липнут последние слуги цивилизации, чтобы испортить мне счастье пешей прогулки. Было уже так темно, что зажглись фонари. Несмотря на поздний час, я был бодр и возбужден: за городом обязательно встретятся деревни, где можно напроситься на ночлег.
Эта ночь была не самой спокойной в моей жизни, зато запомнилась.
Сокол – протяженный, очень пыльный и некрасивый город, в котором, кажется, делают газетную бумагу, сгущенку и много чего другого. Но я уже был на окраине и скоро вышел на пустынное шоссе, ведущее в полевую тьму. Отчетливо пахло болотной гнилью, гнилыми водорослями, осокой, аммиаком, в низкой лощине справа поднимался сырой туман, – так пахнет низина, из которой ушло море, оставив на голом дне свалявшиеся ламинарии и груды еще не просохшего щебня.
Вскоре налево поодаль от шоссе показалась деревня. «Ершово», – гласил дорожный указатель. Час был поздний, и я свернул туда. Я прошел ее улицу из края в край под лай собак, но сарая или бани сразу не обнаружил. Горел только один фонарь в середине улицы, он лишь усиливал чувство бесприютности. Я постановил как можно реже обращаться к людям за помощью во время своих путешествий – просто потому, что причиной моего бегства из мегаполиса и явилось, в частности, отвращение к человеческому облику, однако перспектива не найти никакого приюта в первую же с в о б о д н у ю ночь меня удручила. В самом центре деревни возвышался высокий бревенчатый полутораэтажный дом из тех мастодонтов раскольничьего строительства, какие еще встречаются кое-где на Севере и в Сибири. Хотя стекла рам, до которых было не дотянуться рукой, были целы и мертво поблескивали в свете одинокого фонаря, было очевидно, что в доме никто не живет, дверь была заперта на увесистый замок. Воровски озираясь, я прошмыгнул через отворенную калитку в огород. Он был засажен грядками, хорошо выполот (сорняки валялись в бороздах); за широким, как мавзолей, бревенчатым двором росли, правда, лопухи в человеческий рост и были свалены доски для какого-то строительства, но в общем это чужое земельное владение мне приглянулось: двор и несколько коренастых яблонь, росших вдоль забора, вполне скрывали меня со стороны улицы. Тут же стояла железная бочка с дождевой водой. Здесь было хорошо, страшно, таинственно, навевало чувства, знакомые только в детстве, когда я в компании с друзьями очищал чужие парники. Вновь ощутить это в сорок лет было так необычно, что я хихикнул, скинул рюкзак, осторожно настелил на подходящее бревнышко несколько досок пологим накатом и примерился: каково это будет выглядеть – ночь под открытым небом. Было жестковато, но хорошо. Поверх свитера я натянул, достав из рюкзака, еще один, потому что было весьма прохладно от редкого тумана, наползавшего с лугов, и от близости большой реки, которая протекала где-то там, за шоссе. Поползав на ощупь по грядкам, я обнаружил, что самое простое в моем положении – это позаимствовать несколько луковиц с длинными, но еще сочными перьями, и пару тощих морковок – буквально на зубок, и все это умять с черным хлебом, краюху которого я достал из рюкзака. Я помыл овощи в бочке, порезал хлеб и с толком принялся за ужин. В одном из дальних дворов брехала собака, почуявшая мое присутствие, но смутить меня ей не удалось. Зато, поостыв на досках после ходьбы, я обнаружил другое существенное неудобство: к утру могло и подморозить. Покончив с едой, я положил свой мешок под голову и с наслаждением растянулся на досках во весь рост.
Боже ты мой! Я столько лет его не видел, этого глубокого ночного неба, которое так и переливалось россыпями звезд. Оттуда шли такие счастливые необычайные токи огромного мироздания, что я почувствовал совершенное замирение не только в людьми, от которых бежал, но и с Богом. Эта провальная бездна напоминала обозначенному мною телу, простертому здесь на досках, что, кроме нее, надмирной, все человеческое есть пустяки и суета, малосущные и еле обозначенные на ее окраинах. Дух переносился туда, легко воспаряя в эфирном пространстве, и уже оттуда, со звезд, вновь возвращался по нити дыхания, безусловно находя деревеньку Ершово и лежащего меня. Это путешествие взгляда и духа совершалось в полном восхищении души, в ее горьком сожалении оттого, что невозможно в ее плотском объеме, медлительнее и обстоятельнее слетать-съездить туда, в межзвездное пространство. Это было такое разочарование, что я вновь ощутил свое тело и окружающий холод, повернулся на бок, засунув руки в рукава, как пленный француз после Березины с известной картины, сопровождаемый русским мужиком с рогатиной, и попытался заснуть. Однако через четверть часа прилежных попыток понял, что в эту ночь это не удастся: голова была ясной, тело бодрым и даже возбужденным. Надо было идти, двигаться: тело само остановится там, где снимет с себя возбуждение и устанет. Самый первый рейсовый автобус, следовавший в Тотьму, делал остановку в Кадникове часов в восемь утра, у меня была уйма времени; от Сокола до Кадникова вряд ли больше двадцати пяти километров, даже если ни одна попутка меня не подвезет и придется идти пешком. Маленькое чувственное расстройство наблюдалось лишь по поводу того, что попутешествовать обстоятельнее, с уклонением в сторону от шоссе, опять не выходило, предстоящий путь лежал по оживленной цивилизованной автостраде и замыкался опять в автобусе. Ну, да Бог с ним, не такая уж прелесть – этот Сокольский район, плоский, как блин, весь в болотах и дренажных канавах!
Было 1 августа 1996 года. Кроме холода, донимали еще и комары. Ворочаясь, я недоумевал, откуда они в таком количестве в местности, где и леса-то нет, но потом до меня дошло, что обширные болотистые поля, исчерканные мелиоративными системами, и целые плантации болотных трав и тростников – самые лучшие питательные рассадники для личинок комара. В детстве, когда все знания правильны, мы, дети, так друг другу и вещали с апломбом профессоров: комары заводятся от сырости. Я рывком поднялся с дощатого ложа и стал прилаживать на спину рюкзак.
Как же это я не догадывался об этом наслаждении прежде! О наслаждении топать в удобных ботинках по пустынному шоссе, свободно болтая руками и чуя за спиной противовес рюкзака! Ведь я плебей и бродяга; мои деды пахали раскорчеванную землю на северо-востоке Вологодской губернии, а бабки варили для них пиво, подавая в позеленелых медных ковшах-братинах, какие теперь можно встретить только в краеведческих музеях. Золотистые шишечки хмеля они срывали с шестов за собственным тыном, а сладкий солод брали у мельника, а то и сами готовили, вышелушивая сухие ячменные колосья. И я, их потомок, в сорок лет чуть не заделался барином, обзавелся тугим животиком, ночными страхами и гипертонией, словно самый заурядный горожанин, который с рождения до смерти торчит в помещениях, искусный лишь в науке общежития. Но вовремя обнаружилось одно обстоятельство, вряд ли существенное для цивилизованных людей: спасительная власть неудобств. Вместе с тысячами стихийных беженцев, поваливших с воюющего юга, я решился на бродяжничество для того, чтобы растрясти жир и омолодить организм, дряхлевший от безысходности комнатной, почти тюремной жизни в забетонированных клетках города. Да, в нашем образе зачастую «важный» и «тучный» – почти синонимы, да, я нечто теряю в общественном статусе и уважении друзей, решившись сбросить вес и девальвироваться, но, хотя я знаю, что почтением пользуются полумертвые, все-таки здоровья и радость бытия всего дороже. На общественном же поприще сын крестьянина не может соревноваться даже с самым посредственным и недалеким из горожан: разные ценности. Да, все-таки разные ценности: муравейник и муравьиная тропа…
Моя «тропа» была хороша, а главное, пустынна, подошвы льнули к ней во всю длину. Поле было огромно и голо, и впереди на его краю поблескивали огоньки фар: там пролегало шоссе М-8, перпендикулярное моему, и через полчаса я его достиг. Потоптавшись на широкой развилке и несколько раз голоснув возле крытой автобусной остановки (безрезультатно: водители грохочущих контейнеровозов и запоздалых малолитражек воображали, очевидно, что у меня за поясом пара кольтов), я охотно двинулся по обочине широкого ночного тракта. Эх, что за удовольствие бодрым шагом идти по хорошей дороге, поглядывая окрест, – на туманные поля, на широкие кюветы, в которых топорщится осока и продолговатые коковки рогоза торчат из вонючей воды, что за счастье – прислушиваться пугливо к шорохам из подступающего обочь леса и далеко впереди, задолго до появления, замечать лучи выползающих из-за угора встречных грузовиков. Шоссе было так широко, что даже мгновенное соседство редких автомашин меня не стесняло, тем более что с каждой минутой охотников стремиться к Архангельску в эту глухую пору становилось все меньше. Случались долгие минуты, когда ни впереди, ни сзади не доносилось ни звука, и тогда плотная тишина обступала меня со всех сторон, протягивалась из молчаливого леса по обе стороны, спускалась с ясных звездных небес. Пахло несколько удушливо для столь мирной ночи – тяжелым запахом осушаемых торфяников, отгнивающих водных стеблей, тем, чем насыщен воздух в дельтах больших рек, когда блуждаешь в плавнях и уже отчаялся выбраться. В лесу, как всегда об эту пору, явно кто-то тревожился, не спал и следил за одиноким странником, гулкие шаги которого шарахались между стен леса и ускользали ввысь. Через пять километров у меня появилось реальное ощущение с трудом усваиваемого пространства, которое, наверное, испытывают после длительной тренировки на велотренажере или на бегущей дорожке: Всё мне казалось, что я не столько иду вперед, сколько меня относит назад, а у подножий пологих холмов я явственно ощущал круглоту, казалось, всей Земли. Иногда я чувствовал себя столь оживленным, разгоряченным, что, мысленно урезонившись, останавливался, замирал посреди ленты асфальта, – и тогда особенно огромным, победным казалось все пространство до горизонта, широкий путь, посреди которого я беспомощно копошился: так мирно, без чувств отдыхала пустыня мира, что, чувствующий, ты невольно представлялся себе самому буйным умалишенным. И усмехнувшись, вновь трогался в путь, вновь вбирал его в разгоряченное сердце. Я с отрадой смотрел на уже зеленеющее предрассветное небо, и все мне казалось, что там заметно зарево городских огней, но за следующим бугром, на который взбиралась дорога, расстилался в сумерках новый аспидный отрезок, и я вновь его одолевал. И при всем том, поскольку дорога была ровна и и с к у с с т в е н н а, без уютных травянистых ложбинок и укрытых от прохладного ветра впадин, поскольку отдохнуть на ней и расслабиться походя не представлялось возможным, я шел и шел в ускоримой надежде обрести пристань, зная, как трудно будет продолжить путь даже после краткого отдыха. Это больше всего, пожалуй (если уж нюансировать чувства), и удручало: что она искусственна, покрыта слоем гудрона и что в определенном смысле, для души, приемлемей был бы проселок или даже тропа: больше живописных видов а ля Куинджи, неожиданностей, извивов. Недаром же, как утверждает статистика, на слишком прямых автострадах не счесть автомобильных катастроф.