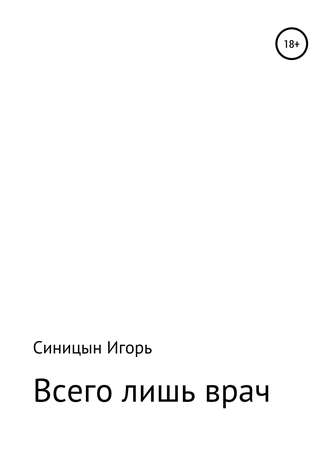
Полная версия
«Всего лишь врач»
( А еще хирургом хочет быть…).
Однажды я пришел на занятия в новом, шикарном свитере, привезенным родителями из Германии, – черный, толстой вязки, с широкой оранжевой и белой полосой поперек груди. Войдя в класс и увидев меня в обновке, она притворно ахнула и ,замерев, прикрыла рукой глаза, как бы ослепленная моим внешним видом. На ком-нибудь другом этот свитер остался бы ею незамеченным, я был уверен в этом – только по отношению ко мне она позволяла себя легкую фривольность, такие знаки внимания. Я был настолько покорен ею, что, сдав экзамен и расставшись с кафедрой, через несколько дней остановил ее в коридоре главного корпуса и, набравшись смелости, протянул листок со своими стихами, посвященными ей. Помню только одну строчку оттуда «…где в Ваших глазах голубые форели тонут». Стоя у окна, она прочла их при мне, и я понимал, что совершаю громадную ошибку, которую уже не исправить. Она подняла глаза и посмотрела на меня так жалобно, так растерянно.. и было непонятно, кого она сейчас жалеет больше: меня или себя. Наверное, никто раньше ей не писал стихов…Она ничего не сказала мне, я тоже молчал; мимо проходили студенты, мои однокурсники, которые, наверное, думали, что я пришел к ней на отработку. Конечно, я поставил не только себя, но и ее в идиотское положение. Дотронувшись до моего плеча, она так же нежно шепнула «Спасибо» и ушла, унося с собой листок.
«Оперативная хирургия и топографическая анатомия». Начало занятий на этой кафедре мы ждали с особым нетерпением. Это было уже серьезным приближением к профессии, к ремеслу. Слово «операция», до этого носившее только абстрактный характер, приобретало здесь вполне конкретное предметное содержание. Названия хирургических инструментов, которые мы заучивали наизусть, звучали для нас, как пароли, пропускающие в узкий круг избранных. Практически все инструменты называются по автору: зажимы Бильрота, Кохера , Микулича, Пеана, Пайера…Иглодержатели Хегара, Матье… пила Джильи, лопаточка Буяльского, спица Киршнера, крючки Фарабефа… Задачи научить нас оперировать никто не ставил – это невозможно в рамках одного курса, нас учили уметь пользоваться зажимами, троакарами, вязать узлы, сшивать ткани… по картинкам в учебниках учили основным этапам простейших операций. Заново, вернее по новому учили анатомии – теперь недостаточно было знать отдельно мышечную систему, отдельно сосудистую.. теперь требовалось знание того или иного органа, той или иной области человеческого тела в целом, в едином комплексе со всеми сосудами, нервами, мышцами… Последний этап обучения – выполнение операции резекции тонкой кишки на собаках. Это было ужасно. Полное замешательство при виде живых внутренностей, полное неумение работать с инструментами на живом органе, полная зависимость от подсказок преподавателей. Руки не слушались, кончики зажимов плавали, не могли попасть в нужное место, иглы гнулись, вращались в держателях, прорезывались нитки…Катастрофа Стыд. Единственное утешение, что пес остался жив после нашей операции.
Недавно по телевизору показывали ток-шоу с участием известных журналистов. историков, политологов. Обсуждали тему – почему Красная Армия оказалась не готовой к войне в июне сорок первого года? Выдвигались традиционные обвинения в пренебрежении данными разведки, в просчетах Сталина, в техническом отставании вооружений и т.д. И никто не назвал главную причину. Ведь, что значит – быть готовым к войне? Это значит – уметь воевать. Не на бумаге, не на картах с синими и красными стрелами, не на штабных играх, а на полях сражений. Гитлеровские армии к моменту нападения на СССР уже два года воевали, в Европе и Северной Африке. Немецкие генералы имели практический опыт руководства большими войсковыми соединениями. Те же маршалы, что возглавляли группы армий Центр, Север, Юг командовали группами армий при нападении на Францию и Голландию. Те же фон Лееб, фон Бок и Браухич. Те же Гудериан и Гот возглавляли танковые корпуса. И побеждали не числом, а умением, следуя заветам Суворова. Французские танки по техническим характеристикам, по бронезащите , были лучше немецких, зато в каждом немецком танке была рация. Голландия пала в результате одной, блестяще проведенной воздушно-десантной операции. Умение маневрировать привело к окружению английского экспедиционного корпуса в Дюнкерке. У нашей армии за плечами был только опыт ограниченных боевых действий в Монголии и Финляндии, не шедший ни в какое сравнение с театром военных действий в Западной Европе, где боевой опыт приобретали миллионные группировки. Недаром отец, профессиональный военный, вспоминая войну, говорил, что не было на свете лучше армии, чем немецкая. В двадцатом веке русская армия не одерживала побед в крупных сражениях. Гибель двух армий в Пруссии под Таненбергом, а до этого были Порт-Артур и Цусима. Поражение уже Красной Армии от белопляков в 1919г. Откуда взялась эта самоуверенность в непобедимости Красной Армии? Весь сорок первый год мы учились воевать, истекая кровью, в бесчисленных «котлах», в отступлениях. Сравнивать немецкую армию с нашей в сорок первом -это сравнивать практикующего хирурга со студентом третьего курса, выполняющим операции только в своем воображении.
На третьем курсе нас в первый раз подпустили к больным. В клиниках кафедр «Пропедевтики» и «Общей хирургии». На терапии нас учили слушать тоны и шумы сердца, хрипы в легких, учили перкутировать грудную клетку, пальпировать брюшную полость, находить увеличенную печень, селезенку, почки… учили симптомам болезней. Главной задачей, которую я поставил перед собой за время обучения на общей хирургии, было – привыкнуть к виду крови. Это оказалось для меня серьезной проблемой. Когда в перевязочных и операционных я оказывался свидетелем хирургического воздействия на живую плоть, мне становилось не по себе. Я чувствовал, как мои ноги делались ватными, что еще немного, и я завалюсь в обморок. Это нельзя было назвать просто дурнотой или головокружением, это совершенно особое состояние мозга, когда воображение не может избавиться от предчувствия какого-то более страшного развития событий, происходящих сейчас на твоих глазах. Я нарочно вставал за спинами согрупников, дескать я высокий, мне и так все видно, под надуманными предлогами выходил в коридор, и оказавшись в одиночестве, опускался на корточки у стены и ждал, когда приду в себя, когда на смену перевозбуждения придет спасительное затормаживание нервных реакций и позволит мне вернуться в операционную уже совершенно спокойным. Я знал, что должен, обязан привыкнуть к тому, как податливо проминается кожа под нажимом скальпеля, мгновенно окрашиваясь красной кровью, теряя свою эволюционную суть защитной оболочки; как струя гноя , вырываясь под давлением из вскрытого абсцесса, забрызгивает халат и маску хирурга; как исходит невидимый, но ощущаемый сознанием пар от хрящевых поверхностей мыщелков при артротомии. А еще была обида и зависть к своим согрупникам, которые в отличие от меня не испытывали никакого смятения, наблюдая за работой хирурга. Мне удавалось скрывать от них свой «порок», они ничего не подозревали, им и в голову не могло прийти такое. Меня же природа обделила и на этот раз, предоставляя самому приобретать качества, которыми других одарила при рождении. Но к концу курса я все-таки воспитал свои нервы, и с тех пор мог выдержать вид самой чудовищной, самой ужасной раны.
Следующим шагом на подступах к специальности должна была стать кафедра факультетской хирургии на четвертом курсе. Ею заведовал профессор Колесов Василий Иванович. Очень маленького роста, тщедушного телосложения, некрасивое старческое лицо в хрупких очках, тоненький голосок… Внешне – совсем незаметная личность. Во время клинических обходов, когда он в сопровождении своей свиты из доцентов и ассистентов ( как на подбор здоровенных и толстых) заходил в палату, его никто из больных не принимал за главного. Он был непререкаемым авторитетом по острому аппендициту, мы занимались по его монографии, но главным его научным достижением был вклад в хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Им был предложен и внедрен в практику маммаро-венечный анастомоз. Те годы были годами становления коронарной хирургии, и это направление было главенствующим в научной деятельности кафедры, помимо заболеваний щитовидной железы и рака пищевода. Широкому признанию маммаро-венечного анастомоза помешала распространенная сначала в США, а потом по всему миру операция аорто-коронарного шунтирования. Именно она стала золотым стандартом в хирургическом лечении коронаросклероза. Вернувшийся после стажировки в Хьюстоне, московский хирург Князев, возглавлявший это направление в РАМН, и слышать не хотел о других вариантах операций, кроме АКШ, и открытие Колесова было отодвинуто на задний план. Но кафедра продолжала заниматься этой проблемой. Сын Колесова – Евгений Васильевич, тоже хирург и доктор наук, первым в стране выполнил операцию маммаро-венечного анастомоза у больного с острым инфарктом миокарда.
Мы с Джоном записались в кафедральное СНО, которым руководил ассистент Орехов, воплощавший ненавидимый мною тип врача, чему немало способствовала и внешность – не ладно скроен, но крепко сшит, короткая шея, жабье лицо в очках, не отражающее никаких эмоций, давящий взгляд, педантичность и прилежание подменяют талант, низко, до бровей, надетая врачебная шапочка..и сухой, скрежещущий голос. Врач– администратор. Первое заседание общества, на которое мы пришли, проходило в аудитории кафедры. Председательствовал Орехов. Предстоял клинический разбор нескольких больных с редкой патологией. Кроме студентов, занимающихся в СНО, в аудитории сидели ординаторы клиники, аспиранты. Когда Орехов объявил диагноз последнего из представленных на демонстрацию больного, я подумал, что ослышался. «Семинома с метастазами в кости черепа». Лечащий врач зачитал историю болезни, показал рентгенограммы и потом ввел в аудиторию молодого парня в больничной пижаме. Ему было двадцать семь лет, по профессии – каменщик. Четвертая стадия рака, не подлежащая оперативному лечению, дни его были сочтены, хотя внешне парень выглядел вполне здоровым, только на бритой голове определялись небольшие, четко очерченные припухлости, размером с грецкий орех. Ему задали несколько вопросов, после чего увели. Я кисло усмехнулся и посмотрел на Джона. Про меня он все знал. «Будет тебе, Гоша. Даже не думай об этом.». –«Во всяком случае, семь лет у меня в запасе есть» – ответил я и постучал о деревянное сиденье. Конечно, узнать о том, что такая же, как у тебя аномалия развития, привела к злокачественному процессу, было неприятно. Как любая информация, полученная случайно, да еще при таких необычных обстоятельствах, она воспринималась, как знак свыше. Общеизвестно, что студенты-медики подвержены канцерофобии, постоянно находя у себя симптомы ракового заболевания. Но я действительно выкинул этот эпизод из головы и не зацикливался на нем.
В СНО нас прикрепили к доценту кафедры – Романковой. Она писала докторскую диссертацию на тему, предложенную ей Колесовым. Ей было поручено исследовать, можно ли использовать для коронарного анастомоза селезеночную артерию. Дело в том, что внутренняя грудная артерия тоже бывает поражена атеросклерозом, и тогда ее использование теряет смысл. В качестве альтернативы в таких случаях по мнению Колесова могла бы служить ветвь селезеночной артерии. Предстояла серия экспериментов на собаках. В качестве первого этапа исследований было решено опробовать модификацию операции Вайнберга. В конце сороковых годов, канадский хирург Вайнберг, предложил с целью улучшения кровоснабжения сердца вшивать внутреннюю грудную артерию в туннель, проделанный в миокарде. Конечно артерия тромбировалась, но расчет был на то, что от нее со временем прорастут в сердечную мышцу новые микрососуды. Конечно, эффективность такой операции была очень низкой. Но в то время чего только не предлагали, чтоб получить дополнительное коллатеральное кровоснабжение сердца – сыпали тальк в полость перикарда, перевязывали сосуды за грудиной – операция Фиески… Романкова должна была отработать технику имплантации селезеночной артерии в миокард. С высоты современных позиций идея, конечно, бредовая, но приказы шефа не обсуждаются.
Мы должны были ассистировать ей на операциях и после эвтаназии забирать у собак сердца, отправляя их на гистологическое исследование. Операции проходили в операционной ЦНИЛа (Центральная научно-исследовательская лаборатория) – мрачное, трехэтажное здание, стоявшее на отшибе; в подвале размещался виварий. Территория института постоянно была разрыта из-за ремонтов теплосети, и добираться до ЦНИЛа приходилось, перепрыгивая через канавы. К опытам приступили с началом зимы, проводя операции по четвергам каждую неделю. График иногда нарушался из-за нехватки собак в виварии.
Наркоз обеспечивал анестезиолог, работавший в клинике факультетской хирургии, – молодой, трудолюбивый и дружелюбный парень. Уснувшую собаку фиксировали на операционном столе, мы с Джоном выстригали шерсть по ходу нужного межреберья и брили, вооружась лезвием «Нева», зажатом в хирургический зажим. Оперировала Романкова, мы ассистировали. Торакотомия, ранорасширителем раздвигали ребра, через разрез диафрагмы проникали в брюшную полость, выделяли артерию, потом на работающем сердце тупым путем, раздвигая бранши зажима, проделывали туннель в миокарде и вшивали туда тяж с выделенной артерией. Редкие швы на рану перикарда, дренаж и ушивание раны грудной клетки, после раздувания лекгих анестезиологом. Для нас с Джоном это был бесценный опыт, ведь мы участвовали в настоящих операциях, учились работать с инструментами, левой рукой открывать зажимы, вязать узлы; позже нам доверяли самостоятельно делать доступ, ушивать плевру, межреберные мышцы… Однажды на операцию пришел младший Колесов в сопровождении аспиранта кафедры Дулаева. Они хотели опробовать, недавно разработанный ими, миниатюрный сосудосшивающий аппарат дл наложения анастомоза с коронарной артерией. Евгению Васильевичу в то время было лет тридцать пять, на кафедре его называли Женей. Наверное, он был похож на отца в молодости – такая же нескладная, не спортивная, фигура, детское лицо в очках, так и не возмужавшее с возрастом, мягкий интеллигентный говорок. Оперировал легко, увлеченно, играючи, с ясным пониманием, что нужно делать в каждую минуту. Указания своим помощникам по ходу операции отдавал не категорично, но так уверенно, что не исполнить их было нельзя. Я помню, как в тот раз он все напевал под маской : « А снег повалится, повалится.. и закружит веретено…».Прицепилась к нему эта песня. Может быть именно тогда, следя за тем, как он оперирует, я вывел для себя закон – руки хирурга должны быть невесомыми, они должны парить, как в невесомости, им должно быть легче подниматься, чем опускаться. Наложить анастомоз тогда не получилось, не смогли «разбортовать» артерию на аппарате, пришлось заканчивать имплантацией в миокард. « И моя молодость повадится ходить цыганкой под окном»… Ничего, в другой раз получится.
Гистологические исследования препаратов сердца в различные сроки после операции показало образование новых кровеносных сосудов в зоне имплантации артерии. На городском конкурсе студенческих научных работ мы получили какую-то грамоту, а вот Алмазов – ведущий кардиолог города и будущий академик, на научной институтской конференции, выслушав наш доклад, сказал, что лечение ишемической болезни сердца останется все-таки за терапевтами. Это было в семидесятом году. Как он ошибался, именно хирургия, внедрение АКШ, совершило переворот в этой области.
Приобщение к экспериментальной хирургии позволило нам впервые, всерьез ощутить себя хирургами. Хирургический стерильный халат, который надевала на тебя операционная сестра и завязывал на спине санитар, это был уже не маскарад. Это уже не любование перед зеркалом вроде того, как в детстве нравилось примерять парадный мундир отца с полковничьими погонами, с двумя орденами Отечественной войны и тремя Красной Звезды, и кортик на расшитом золотом поясе. В то же время в нас окрепла решимость в правильности избранного пути, и теперь пора было ближе знакомиться с хирургией клинической. Два раза в неделю «факультетская хирургия» дежурила по «скорой», то есть по оказанию экстренной хирургической помощи. Конечно, это были не такие напряженные дежурства, какие приходилось нести обычным городским больницам, и предназначались в основном для обучения студентов. Дежурный врач звонил центральному диспетчеру на «03» и заказывал сколько больных и с какими диагнозами следует привезти. Как правило это были пациенты с подозрением на острый аппендицит. Смешно даже сравнивать те идиллические дежурства с «мясорубкой», которая творилась в приемных покоях городских больниц, работавших на «скорую» по городу.
Мы стали ходить на дежурства, чтоб присутствовать на операциях. Сначала по тем дням, когда дежурил Джонов родственник, а потом, когда к нам привыкли, в любые другие дни. Это время осталось во мне самым приятным воспоминанием об институте. Мы приходили вечерами, когда стихла дневная суета, связанная с учебным процессом и клиника, наконец, могла заниматься тем, чем ей в первую очередь положено заниматься – лечебной работой, в тишине, ни на что постороннее не отвлекаясь. Горели фонари у входа, облетали осенние листья, и на крыльцо, контрастируя с чернотой сумерек, выходили люди в белых халатах, наспех покурить Приемный покой располагался на первом этаже отделанного темно-красной плиткой, красивого, но старого здания, новый корпус для клиники только строился . Экстренная операционная была маленькой, тесной и душной, без окон, освещалась только операционной лампой над столом. Самой часто выполняемой операцией была аппендэктомия. Оперировал кто-нибудь из дежурных хирургов и обязательно с двумя ассистентами – роскошь, которую здесь могли себе позволить, так как недостатка в желающих среди студентов старших курсов и клинических ординаторов, также приходивших на дежурства, не было. Чаще других ассистировал шестикурсник Коротеев Илья – высокий, статный, парень, которому очень шел операционный костюм, халат и особенно колпак, напоминавший татарскую квадратную тюбитейку, только белую. Мне нравилось, как он наполнял шприц из банки с новокаином – одной рукой, сдвигая указательным пальцем корпус шприца относительно поршня. Эффектно, большинство делают это двумя руками. Операционной сестрой подрабатывала студентка пятого курса Обезгауз, очень миловидная, полненькая брюнетка, ее младшая сестра училась с нами на курсе, в параллельной группе. Чтоб волосы не выбивались из-под колпака, она дополнительно обвязывала лоб широким бинтом, что на мой взгляд придавало ее облику еще большую пикантность. « Он терапевт, и дети его будут терапевтами» – отвечал ей лихой Коротеев, вспоминая какого-то своего сокурсника. Сам Коротеев большим хирургом тоже не стал, переквалифицировавшись со временем в анестезиолога; недавно я прочитал его фамилию в списке профессоров кафедры анестезиологии МАПО – и был разочарован, вспомнив, как именно к нему, к его идеальному облику хирурга, испытывал зависть тогда. Сейчас я понимаю, что сотрудники кафедры не были великими спецами в области экстренной хирургии органов брюшной полости, их достоинством была плановая хирургия. Тем более непонятной кажется мне сейчас та легкость, граничащая с безответственностью, когда они доверяли выполнение операций начинающим хирургам, зачастую даже не присутствуя сами в это время в операционной. Помню, какое впечатление на меня произвел клинический ординатор из Ливана, оперируя острый аппендицит.. Ему было сильно за тридцать, внешне – типичная «дубина стоеросовая», с огромными, неуклюжими руками и совершенно тупой, деревенской физиономией с безумным взглядом. Где такого откопали? Нельзя сказать, что у него дрожали руки, они просто ходили ходуном с чудовищно огромной амплитудой, так что делалось страшно всякий раз, когда в них оказывался скальпель или игла. Человек ничего не соображал, но старался и волновался. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы не Коротеев, ассистировавший ему и хватавший ливанца за руки в нужный момент.
На пятом курсе на смену факультетской пришла госпитальная хирургия. Кафедра располагалась в новом, только что построенном здании НИИ пульмонологии, директором которого и одновременно заведующим кафедрой был Федор Григорьевич Углов. Как ни странно, но из всех хирургических кафедр она запомнилась меньше всего. Единственно, чему мы там научились – это переливанию крови. Углов прочитал всего две или три лекции. а остальной курс читал доцент кафедры Стуккей. Старчески худощавый, абсолютно седой, исполненный профессионального благородства, опытный врач. Отец Стуккея, тоже известный хирург, был застрелен в своем кабинете из ружья каким-то безумцем, родственником пациента, скончавшегося после операции. В новой клинике на потолках операционных были устроены «фонари», через которые можно было наблюдать за ходом операций. Но деталей разглядеть было нельзя, и толку от этих просмотров было мало. Один раз ассистировал Углову. Он делал секторальную резекцию молочной железы у женщины по поводу фибромиомы. Операция простая, и скорее всего пациентка была блатной, раз ее оперировал сам академик. Я ждал, что увижу в исполнении Углова высочайшую технику оперирования, о которой в медицинской среде ходили легенды, но в этот раз ничего особенного не увидел, небольшой объем операции не позволял развернуться во всей красе. Углов , конечно, меня не узнал и не мог узнать… Еще до поступления в институт, но уже определившись с выбором профессии, я пришел на его лекцию о здоровом образе жизни, которую он читал в районном дворце культутры. После лекции я подошел к нему и спросил о его взгляде на проблему гемолиза в аппаратах искусственного кровообращения, вычитанную мной из воспоминаний Амосова. Это был предлог, чтоб пообщаться, постоять рядом со своим кумиром. Углов, одевая пальто, сказал, что никакой проблемы тут не видит. ..Удаленную опухоль, как положено, отправили на срочное гистологическое исследование, и, пока ждали ответ, мы примостились на винтовых табуретках возле окна, не размываясь. Чтоб занять время, Углов прочитал мне краткую лекцию о заболеваниях молочной железы, применительно к сегодняшней операции. Пришел ответ, что опухоль доброкачественная, и мы пошли размываться. В следующий раз мы встретились с ним через десять лет. Я заведовал отделением, а Углов пришел проведать своего знакомого, лечившегося у нас. Он был уже совсем старым, но все еще бодрым и энергичным.
В рамках госпитальной хирургии преподавали курс травматологии, который тоже , можно сказать, прошел впустую. Думаю, что свою роль в этом сыграл неправильно организованный учебно-методический процесс. Костную травму нельзя изучать наскоком, как побочную дисциплину. Больше времени должно уделяться не общим представлениям, а индивидуальным занятиям в гипсовальных, перевязочных. Вместо того, чтоб заставлять студентов зазубривать сроки иммобилизации при разных переломах, (эти знания неизбежно сами собой придут во время работы) было бы лучше дать им самим вправить хоть один подвывих стопы или наложить скелетное вытяжение. В институтах травматологию надо преподавать не в стационарах, где на койках лежат уже обработанные больные, а в травмпунктах, где происходит первый контакт с пациентом. О себе могу сказать, что я вышел из института ,ничего не умея в травматологии. Даже в акушерстве – специальности более отдаленной от хирургии, чем травма, я умел больше. По крайней мере, роды с головным предлежанием плода, мог принять.
В медицинских вузах учатся шесть лет – на год больше, чем в остальных. На шестом курсе нас разделили на три потока по избранным специальностям: терапия, хирургия, и акушерство с гинекологией. Наша, заново сформированная, группа стала полностью «хирургической». Вместо наших девушек, ушедших кто в терапию, кто в гинекологию. к нам влились несколько ребят из параллельных групп и две новые девушки. Одна из них – тихая и блеклая Аня Бутузова потом стала женой младшего Колесова и родила ему четырех сыновей.
На весь учебный год за нами закрепили преподавателя все с той же факультетской хирургии – ассистента кафедры Хотомлянскую Иту Наумовну. Ее возраст можно было определить, как «постбальзаковский», лет пятидесяти. Высокая, статная, красивая женщина напоминала скорее донскую казачку, чем еврейку – если судить по имени. Громкий, южнорусский говор, крупное овальное лицо с гладко зачесанными кзади и собранными в пучок черными волосами, насмешливо-пытливый взгляд, убежденного в своей правоте, человека…Ей легко удавалось изобразить на своем лице женское презрение, наигранное недоумение, притворный восторг. Для нее не существовало субординации, безо всякого смущения и подобострастия она общалась с любым высокопоставленным чиновником в институтской иерархии, но с подлинным уважением относилась к авторитетам в нашей профессии. Такой вольности и независимости в немалой степени способствовало то обстоятельство, что Ита Наумовна была женой Ганичкина – ведущего специалиста по раку толстой кишки и в недавнем прошлом директора НИИ онкологии в Песочной. Они жили в старинном доме на углу Кировского и Скороходова, на втором этаже. В подвальчике дома размещался пивбар, который мы часто посещали будучи студентами. Просторная, трехкомнатная квартира была истинно профессорской – антикварная мебель, напольные вазы, хрусталь, фарфор, картины и все в идеальной чистоте и академической тишине. Супруги любили путешествовать, что в те времена было малодоступным занятием для большинства, и объездили весь мир, привозя из заграничных турне разные марки коньяка для своей коллекции. Когда я заканчивал аспирантуру, я еще раз очутился в квартире дома на Кировском. Ганичкин должен был написать отзыв на мою диссертацию, и я , зная, что обычно соискатель сам пишет отзыв – так называемую «рыбу», принес ему подготовленный отзыв и протянул его Ите Наумовне, чтобы она передала мужу. «Что ты.. Андрей Михайлович всегда сам пишет» – и замахала на меня рукой, чтоб я даже и не заикался. Провожая меня в дверях, она расспросила меня о судьбе Джона, Юрочки.. всех помнила. Отзыв Ганичкин дал хороший, дельный.




