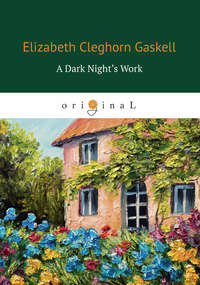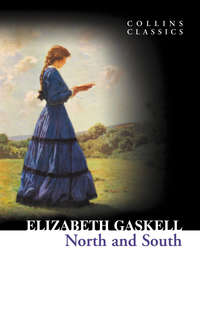Полная версия
Поклонники Сильвии
От рассказов о приключениях контрабандистов разговор естественно перетек к историям, которые происходили с Робсоном в его молодые годы, когда он моряком бороздил Гренландские моря, и с Кинрэйдом, ныне слывшим одним из лучших гарпунщиков, что служили на китобойных судах, отчаливавших от этого побережья.
– Есть три вещи, которых надо бояться, – авторитетно заявил Робсон. – Это льды – опасная штука; еще опаснее – плохая погода; ну и сами киты – эти самые опасные, по крайней мере, такими они были в мое время, возможно, с тех пор эти проклятые бестии научились себя вести. В годы моей молодости их сроду было не загарпунить без того, чтобы они хвостами и плавниками не вздыбили воду: сами все в пене и команда мокрая с ног до головы, а в тех широтах холодная ванна ни к чему.
– Киты вести себя, как вы выражаетесь, не научились, – возразил Кинрэйд, – а вот льды нельзя недооценивать. Однажды я ходил на гулльском китобое «Джон», и мы шли в нормальной чистой воде, охотились на китов и даже думать не думали, что огромный серый айсберг, стоявший скулой к волне где-то на удалении мили, может причинить нам зло; казалось, он стоял там с Сотворения мира и простоит еще столько же, пока все люди на земле не помрут, и за тысячи тысяч лет он не стал ни больше, ни меньше. Вельботы охотились на рыбину, на одном я был гарпунщиком, и так нам не терпелось поймать кита, что никто не замечал, что нас относит прямо под тень айсберга. Мы все были увлечены погоней, и кита я загарпунил. Едва он испустил последний вздох, мы сцепили вместе его плавники и за хвост привязали к судну, а потом перевели дух и огляделись. Неподалеку мы видели другие вельботы, пытавшиеся удержать две рыбины, которые вот-вот могли вырваться. Я это сразу определил, потому как, заявляю без ложной скромности, я был лучшим гарпунщиком на борту «Джона». И я говорю: «Парни, один остается на борту и сторожит кита (которому я сам пропустил канат меж плавников), и он теперь был мертв, как Ноев прадед[47], все остальные идем на помощь другим вельботам». Как вы понимаете, рядом с нами находился еще один вельбот, чтобы тралить рыбину. В ваше время ведь тоже рыбину тралили, да, господин?
– Да, да, – подтвердил Робсон. – Одна лодка стоит на месте, на ней закреплен конец линя, а другая наматывает круги вокруг рыбины.
– Ну так вот! Благо у нас был вторая шлюпка, мы все сели в нее, на вельботе никого не осталось. И я спросил: «Но кто же останется с убитой рыбиной?» Парни промолчали, потому как все, подобно мне, горели желанием пособить товарищам нашим. И мы рассудили, что наша лодка будет для нас плавучим ориентиром и мы вернемся на нее, как только поможем товарищам. В общем, все мы без исключения налегли на весла и поплыли прочь из-под черной тени айсберга, который казался таким же незыблемым, как полярная звезда. И что вы думаете? Не отошли мы и на двенадцать саженей[48] от своего вельбота, как вдруг бух-бубух! Что-то с грохотом рухнуло в воду. А потом поднялся огромный фонтан слепящих брызг, и, когда мы протерли глаза и чуть опомнились от страха, уже не было видно ни вельбота нашего, ни сверкающего брюха кита, стоял один лишь айсберг, зловещий и недвижный, с которого отвалилась глыба весом, должно быть, в сотню тонн и обрушилась на лодку и рыбину, унеся их в морскую бездну, которая в тех широтах вглубь на полземли уходит. Разве что углекопы в шахтах вокруг Ньюкасла как-нибудь наткнутся на наше славное судно, если будут копать глубоко, а так больше ни одна живая душа его не увидит. А ведь я оставил на нем отменный складный нож, какого на всем свете не сыскать.
– Слава богу, что людей на нем не было, – заметила Белл.
– Да что вы, госпожа! Все мы так или иначе умрем. По мне, лучше уж на дне морском лежать, чем под земной толщей.
– Но там же так холодно, – промолвила Сильвия. Поежившись, она поворошила кочергой в очаге, согреваясь в своем воображении.
– Холодно! – ворчливо воскликнул ее отец. – Да что вы, домоседы, можете знать про холод?! Побывай ты там, где я однажды был, в море, на восемьдесят первом градусе северной широты, да еще в жуткий мороз, причем не глубокой зимой, а в июне. Мы увидели кита, в лодку – и за ним, а эта невоспитанная бестия, только в нее вонзили гарпун, как хрякнет своим огромным неуклюжим хвостом, да по корме – меня и вышвырнуло в воду. Вот это был холод, скажу тебе! Сначала меня всего огнем опалило, будто с меня кожу живьем содрали, а потом каждую косточку в теле скрутило, как при зубной боли, и в ушах рев стоит, в глазах завихрение; мне из лодки бросают весла, я пытаюсь ухватиться за них, но ни одного не вижу – глаза слепит от холода. Я уж подумал: все, отхожу в Царство Божие. И все силился вспомнить Символ веры[49], чтоб умереть как христианин. А вспоминалось только «Как имя твое во Христе?»[50]. И только я распрощался и с мыслями, и с жизнью самой, меня втащили в лодку. Но, Господи помилуй, у них осталось всего одно весло, остальные ведь мне побросали, так что можете представить, сколько мы добирались до корабля; ну и вид у меня был, скажу я вам: одежда на мне вся обледенела, как и я сам, волосы превратились в глыбу льда, что тот айсберг, про который он рассказывал. Меня растерли, как миссус моя натирала вчера окорока, и дали бренди; но, сколько меня ни растирали, сколько ни поили бренди, кости мои так и не оттаяли. А ты говоришь «холод»! Что вы, женщины, знаете о холоде!
– А бывает и жара! – сказал Кинрэйд. – Однажды я ходил на американском китобое. Они обычно ходят на юг, туда, где снова начинается холод, и, бывает, по необходимости остаются там на три года, зимуют в гавани одного из тихоокеанских островов. Так вот, мы были в южных морях, искали богатые китовые пастбища; и близ нашего левого траверза[51] вздымалась огромная ледяная стена высотой ни много ни мало шестьдесят футов[52]. И наш капитан, смельчак, каких свет не видывал, говорит: «В той темно-серой стене будет проход, и я в него поплыву, даже если придется идти вдоль нее до судного дня». Но, сколько мы ни плыли, до прохода добраться не могли. Под нами колыхалось море, над головами – небесная ширь, которую, казалось, пронзали льды, вздымавшиеся из воды. Мы шли и шли под парусами – не сосчитать сколько дней. Наш капитан был человек отчаянный, со странностями, но однажды сбледнул с лица – когда вышел на палубу после сна и увидел зелено-серую льдину прямо по траверзу. Многие из нас подумали, что корабль наш проклят из-за того, что сказал капитан, и мы стали разговаривать тихо и воссылать ночные молитвы, и даже сам воздух наполнился глухой тишиной, так что мы не узнавали собственных голосов. А мы все плыли и плыли. И вдруг вахтенный издал крик: он углядел брешь во льдах, которые, мы уж боялись, никогда не кончатся. И мы все собрались на носу корабля, а капитан крикнул рулевому «Так держать!», выпрямился и снова принялся бодро расхаживать по юту. И вот мы подошли к огромной расщелине в утомительно длинной ледяной стене, и края этой расщелины не были зазубрены, а уходили прямо в пенящиеся воды. Нам удалось только раз заглянуть в нее, потому как наш капитан заорал во всю глотку, веля рулевому разворачивать судно и плыть прочь от врат преисподней. Клянусь, мы все собственными глазами видели, как внутри той грозной ледяной стены в семьдесят миль длиной, внутри той серой массы холодного льда бесновались красно-желтые языки пламени, и этот огонь сверхъестественного происхождения, вырывавшийся из самых глубин моря, слепил нас своим алым сиянием, взмывая ввысь, поднимаясь выше, чем окружавшие нас льды, которые, как ни странно, от него не таяли. Говорили, что кое-кто, помимо нашего капитана, видел там черных бесов, метавшихся туда-сюда быстрее, чем сами огненные языки; во всяком случае, он их видел. И, понимая, что это его дерзость привела к тому, что мы раньше времени узрели все те запретные ужасы, которые живым видеть не дано, он просто зачах, и мы только и успели взять одного кита до того, как наш капитан преставился и командование взял на себя его первый помощник. То плавание было удачным, но, несмотря на все это, в те моря я больше не ходил и на американские суда больше не нанимался.
– Боже мой! Даже подумать страшно, что мы сидим с человеком, который заглянул во врата преисподней, – ошеломленно промолвила Белл.
Сильвия, выронив свое рукоделие, зачарованно таращилась на Кинрэйда.
Дэниэла немного задело, что его собственная жена и дочь с нескрываемым восхищением слушают удивительные истории гарпунщика, и он заявил:
– Будь я болтлив, вы меня ценили бы куда больше, чем теперь. Чего я только не видел, чего не совершил!
– Расскажи, папа! – с придыханием в голосе попросила Сильвия, жадная до новых рассказов.
– Какие-то истории повествовать негоже, – отвечал Дэниэл, – про другие лучше не спрашивать, потому как они могут навлечь неприятности. Но, как я говорил, будь у меня желание открыть все, что хранит моя память, у вас бы волосы дыбом на голове встали, приподняв ваши чепцы никак не меньше, чем на дюйм. Мама твоя, дочка, уже слышала одну-две из этих историй. Белл, помнишь историю о том, как я катался на ките? Пожалуй, этот парень понимает, насколько это опасно. Ты ведь слышала, как я ее рассказывал, да?
– Слышала, – подтвердила Белл, – давно, когда мы еще только встречались.
– Точно, еще до рождения этой юной девицы, а теперь она почти взрослая выросла. Правда, с той поры мне некогда было развлекать жену рассказами, и готов поспорить, эту историю она уже позабыла, а Сильвия так и вовсе никогда ее не слышала. Так что, Кинрэйд, тебе повезло. Наполняй свою кружку. – И он продолжал: – Я и сам был гарпунщиком, хотя потом предпочел искать приложения своим талантам на контрабандистском поприще. А вот однажды я ходил на китов на «Метком» из Уитби. В один сезон мы стояли на якоре близ берегов Гренландии с грузом из семи китов. Наш капитан был зоркий парень, и работы никакой не чурался. Однажды, завидев кита, вскочил в лодку – и за ним, а мне сигнал подал и еще одному гарпунщику, с которым мы были на другой лодке – отвлекали внимание, – чтоб мы следовали за ним. Так вот, когда мы поравнялись с капитаном, он уже загарпунил рыбину и говорит мне: «Готово, Робсон! Как только всплывет, ударь ее еще раз». И я встал, выставил вперед правую ногу, держа наготове гарпун, чтобы бросить его, как только кит появится, но даже плавник его не мелькал. Это и понятно, ведь он находился прямо под нашей лодкой. И когда эта уродливая тварь захотела всплыть, она сначала высунула из воды голову, а та у нее все ровно что из чугуна, и она своей чугунной башкой хрякнула по днищу лодки. Меня, словно мячик, подбросило в воздух вместе с линем и гарпуном, а с нами взлетели добрый кусок дерева и несколько моряков. Нужно было что-то делать, ведь я глазом моргнуть не успел, как оказался высоко в воздухе, и уже думал: ну все, опять свалюсь в соленую воду. А вместо этого плюхнулся на спину кита. Да, смотри не смотри, сударь, но именно туда я упал, на широкую и скользкую спину, и сразу вонзил в нее гарпун, чтобы удержаться, а потом кинул взгляд на огромные волны, и у меня вроде как морская болезнь случилась, и я стал молиться, чтоб кит не нырнул, и молился ревностно, не хуже священника и его помощника в монксхейвенской церкви. Наверно, молитвы мои были услышаны, ибо я оставался в северных широтах и кит особо не дергался, ну а я старался удержаться на нем; на самом деле хотел бы – не свалился, потому как был накрепко привязан к гарпуну линем, который обмотался и скрутился в узлы вокруг меня. Капитан кричал, чтобы я перерезал линь, – легко сказать! По-вашему, так просто вытащить нож из кармана штанов, когда одной рукой изо всех сил держишься за спину кита, что движется со скоростью четырнадцать узлов в час?[53] И я подумал про себя: я не могу выпутаться из линя, а линь намертво привязан к гарпуну, а гарпун крепко сидит в ките, и тот в любую минуту, как только ему в голову стукнет, может уйти под воду, а вода ледяная, и тонуть мне совсем не хочется; я не могу выпутаться из линя и не могу достать из штанов нож, хоть бы капитан обозвал меня бунтовщиком за то, что я не выполняю его приказ, ну а если линь крепко привязан к гарпуну, надо посмотреть, крепко ли гарпун сидит в ките. И я стал выдергивать его и тащить, и кит, поняв, что я его не щекочу, как поднимет свой хвост и давай лупить по воде, только там лед был, а то бы меня всего окатило. Я продолжал тянуть за древко и только боялся, что кит уйдет под воду вместе с гарпуном. И вот гарпун наконец-то сломался, и как раз вовремя, потому как думаю, рыбина устала от меня так же, как я от нее, и ушла под воду. Одному богу известно, как я добрался до лодок, которые держались поблизости, чтоб меня подхватить: кит скользкий, вода холодная, сам я опутан линем с древком от гарпуна. В общем, миссус, тебе повезло, что ты не осталась старой девой.
– Не то слово! – воскликнула Белл. – Помню я этот твой рассказ, как не помнить. В октябре уж двадцать четыре года будет. Никогда не думала, что мне приглянется болван, оседлавший кита!
– Учись, как завоевывать женщин, – сказал Дэниэл, подмигивая гарпунщику.
И Кинрэйд сразу же взглянул на Сильвию. Непроизвольно. У него это вышло само собой, так же естественно, как пробуждаешься утром, когда проходит сон; но Сильвия от его неожиданного внимания зарделась, как роза, покраснела так густо, что он отвел глаза; и когда счел, что самообладание вернулось к девушке, снова обратил на нее взгляд. Смотрел он недолго, потому что Белл, внезапно встрепенувшись, принялась его выпроваживать. Уже поздно, затараторила она, господин ее устал, а завтра их ждет тяжелый день, да и Эллен Корни пора ложиться спать, а они уже достаточно выпили, наверняка даже больше, чем нужно, заболтав ее своими историями, в которые она имела глупость поверить. Никто не догадался о настоящей причине, побудившей ее с почти грубой поспешностью выставить за порог гостя, никто не увидел, как она вдруг испугалась, что он и Сильвия «увлеклись друг другом». В начале вечера Кинрэйд объяснил, что он пришел поблагодарить ее за колбасы, которые она по доброте душевной ему прислала, и что сам он через день-два уедет домой, это недалеко от Ньюкасла. А теперь, отвечая Дэниэлу Робсону, он заявил, что на днях еще зайдет как-нибудь вечерком, чтобы послушать другие истории старика.
Дэниэл от выпитого пребывал в весьма благодушном настроении, а то бы его жена никогда не посмела обидеть гостя; и его слезливая доброжелательность нашла выражение в настойчивом гостеприимстве: пусть Кинрэйд наведывается в Хейтерсбэнк когда угодно; пусть приходит сюда, как к себе домой, когда будет в этих краях; пусть приходит и живет, и все в таком духе. И так он распинался, пока Белл не захлопнула и не заперла внешнюю дверь, не дожидаясь, когда гарпунщик отойдет от их дома.
Всю ночь Сильвия грезила об огненных вулканах, извергающихся в ледяных южных морях. Но, поскольку в рассказе гарпунщика языки пламени были населены демонами, это невиданное зрелище не представляло для нее личного интереса, ведь она в нем не участвовала, была лишь зрителем. С рассветом наступило пробуждение и появились обыденные житейские вопросы. Кинрэйд и вправду намерен покинуть их край раз и навсегда, как он сказал? Правда ли, что он суженый Молли Корни, или все же нет? Убеждая себя в одном, она внезапно меняла направление своих мыслей и приходила к противоположному мнению. В конце концов Сильвия решила, что нельзя делать выводы, пока она снова не увидится с Молли. Стиснув зубы, она дала себе слово, что выбросит гарпунщика из головы и станет занимать свое воображение только чудесами, о которых он рассказывал. Возможно, будет думать о них немного вечерами, плетя пряжу у домашнего очага, или когда в сумерках погонит домой на дойку скот, неспешно шагая за невозмутимо плетущимися коровами, а порой и летом, как прежде, возьмет с собой вязанье и отправится дышать свежим морским воздухом, что доносит легкий ветерок; спустившись с уступа на уступ по скалам, обращенным к синему океану, устроится с рукоделием на опасном пятачке, который был ее излюбленным местечком с тех пор, как ее родители поселились на ферме Хейтерсбэнк. Оттуда она часто видела снующие вдалеке парусники, с праздным наслаждением наблюдая, как они безмятежно скользят по волнам, но при этом ни разу не задумалась о том, куда они плывут или в какие неведомые края проникнут, прежде чем повернут назад, к родным берегам.
Глава 10. Строптивая ученица
Мысли Сильвии все еще занимали гарпунщик и его истории, когда на ферму явился Хепберн, чтобы преподать ей следующий урок грамоты. Стремление, если таковое она вообще имела, заработать его сдержанную похвалу за целую страницу, размашисто исписанную словом «Авденаго», теперь утратило для нее всякое очарование. Сильвию не прельщало сидеть согнувшись и старательно выводить буквы, куда сильнее была охота вызвать у Хепберна схожий интерес к опасностям и приключениям в северных морях. По неразумности она стала пересказывать одну из историй, услышанных от Кинрэйда, и, когда поняла, что Хепберн воспринимает ее рассказ как помеху, отвлекающую от серьезного дела (а то и вовсе считает его глупой выдумкой), и пытается терпеливо внимать ей лишь в надежде на то, что Сильвия, выговорившись, сосредоточится на письме, она плотно сжала губы, словно принуждая себя больше не взывать к его участию, и с бунтарским видом приступила к уроку, сорвать который ей не позволило только присутствие матери.
– И все же, – она бросила ручку, сгибая и разгибая онемевшие от усталости пальцы, – я не вижу пользы в том, чтобы изнурять себя писаниной. На что мне умение писать письма, если я в жизни ни одного письма не получила? Кому я должна отвечать, если мне никто не пишет? А если и напишет, я все равно не смогу прочитать. Даже книжки печатные читать трудно, хотя я никогда не пробовала, ведь там наверняка полно новомодных словечек. И вообще, тех, кто изобретает новые слова, лучше бы отослать куда подальше. Почему нельзя всегда довольствоваться определенным набором слов?
– Ну как же, Сильви! Ты сама в быту каждый день используешь двести – триста слов, а я в магазине – еще и много таких, которые тебе и в голову не придут; и тем, кто работает в поле, тоже нужен свой набор слов. Я уж молчу про возвышенный язык, на котором говорят священники и адвокаты.
– Ой, читать и писать так утомительно. Может, поучишь меня чему-то другому, раз у нас все равно занятия?
– Неплохо бы тебе освоить счет… и географию, – с медлительной серьезностью произнес Хепберн.
– География! – просияла Сильвия, пожалуй, не совсем правильно произнеся это слово. – Поучи меня географии. Я про столько разных мест хочу узнать.
– Хорошо, на следующий урок принесу учебник и карту. Хотя сразу могу сказать тебе, что земной шар делится на четыре части света.
– Шар? – спросила Сильвия.
– Земной шар – это земля, на которой мы живем.
– Продолжай. А Гренландия какая часть света?
– Гренландия – не часть света. Она занимает лишь часть одной части света.
– Наверно, половину этой части.
– Нет, не так много.
– Половину половины?
– Нет! – Хепберн чуть раздвинул губы в улыбке.
Сильвия подумала, что он специально уменьшает размеры Гренландии, чтобы подразнить ее, посему она надула губы, а потом заявила:
– Из всей географии мне интересна только Гренландия. Ну и, пожалуй, еще Йорк. Мне хотелось бы узнать про Йорк, потому что там проводятся скачки, и про Лондон – там живет король Георг.
– Но чтобы знать географию, нужно изучить все страны и области: где жарко, где холодно, сколько людей там живет, какие есть реки, как называются главные города.
– Сильвия, я уверена, если Филипп научит тебя всему этому, ты станешь самой ученой из Престонов, что родились с тех пор, как мой прапрадед утратил свою землю. И я буду очень гордиться тобой, потому как снова возродится слава Престонов из Слейдберна[54].
– Мамочка, я готова на все, чтобы тебе угодить. Только кому они нужны, эти богатства и земли, если люди, что ими владеют, вынуждены как проклятые писать и писать «Авденаго» и заучивать трудные слова, пока мозги не лопнут?
И в тот вечер со стороны Сильвии это, наверно, была последняя вспышка протеста; после она присмирела и со всем прилежанием старалась вникнуть в то, что втолковывал ей Филипп с помощью схематичной карты, которую он вполне искусно нарисовал куском обуглившейся древесины на кухонном столе тети. Правда, прежде чем приступить к так называемой «грязной работе», по выражению Сильвии, он заручился тетиным соизволением. Мало-помалу даже Сильвия стала проявлять интерес к его художеству: перво-наперво он большой жирной точкой обозначил Монксхейвен и затем вокруг этого центра принялся очерчивать контуры суши и моря. Упершись локтями в поверхность кухонного стола и положив подбородок в ладони, Сильвия внимательно следила за появлением все новых и новых объектов на схематичной карте, но время от времени вопросительно поглядывала на Филиппа. А тот был не настолько поглощен уроком, чтобы не замечать ее сладостной близости. Сейчас Сильвия была настроена к нему крайне доброжелательно – не бунтовала, не дерзила, – и он из кожи вон лез, чтобы удержать ее внимание – был красноречив, как никогда (такое вот вдохновение порождает любовь!), угадывая, о чем ей любопытно услышать и узнать. Филипп пытался объяснить Сильвии причины возникновения долгих полярных дней, о которых она слышала с детства, и вдруг почувствовал, что она отвлеклась, думает о чем-то своем, и он больше не владеет ее вниманием. Эту интуитивную уверенность он сохранял не дольше мгновения, даже не успел предположить, что повлияло на Сильвию столь противное его желаниям, потому как в следующую минуту дверь отворилась и в дом вошел Кинрэйд. И тогда Хепберн сообразил, что Сильвия, должно быть, услышала его шаги и узнала их.
Рассерженный, он напрягся, приняв чопорный вид. К его удивлению, Сильвия встретила гостя так же холодно, как и он. Она встала за спиной у Филиппа и, возможно, поэтому не видела, что Кинрэйд протянул ей руку, ибо она не вложила в нее свою маленькую ладошку, как в руку Филиппа час назад. И почти не разговаривала, сосредоточенно рассматривая нарисованную головешкой карту, будто была увлечена географией или задалась целью запомнить во всех подробностях урок, что преподал ей Филипп.
Последний, однако, приуныл, заметив, сколь обрадовался Кинрэйду хозяин дома, объявившийся из дальних комнат почти одновременно с приходом гостя. И разволновался, когда увидел, что Кинрэйд занял место у очага, будто был хорошо знаком с порядками, заведенными в этом доме. Появились курительные трубки. Филипп курить не любил. Кинрэйд, возможно, тоже, но он все равно взял трубку и разжег ее, хотя почти не попыхивал ею, ведя с фермером Робсоном беседу о мореплавании. Говорил практически он один. Филипп сидел рядом с мрачным выражением на лице, Сильвия и его тетя молчали, старик Робсон курил свою длинную глиняную трубку, время от времени вынимая ее изо рта, чтобы сплюнуть в начищенную до блеска медную плевательницу и вытряхнуть из чаши белый пепел. Прежде чем снова сунуть трубку в рот, он издавал короткий смешок, давая понять, что получает удовольствие от общения с гарпунщиком, и от случая к случаю вставлял замечание. Сильвия сидела боком с краю стола, притворяясь, будто шьет, но от внимания Филиппа не укрылось, что она часто замирала за рукоделием, слушая рассказ гарпунщика.
Вскоре тетя завела с ним беседу, и они продолжали тихо переговариваться между собой – не потому, что испытывали какой-то особый интерес к тому, что они обсуждали, просто Белл Роб-сон чувствовала, что племянник, родной ей человек, расстроен. Не исключено, что они оба были не прочь показать свое скептическое отношение к байкам Кинрэйда. В любом случае миссис Робсон, будучи женщиной малообразованной, опасалась верить в небылицы.
Филипп, сидевший строго напротив гарпунщика, по ту сторону очага, что была ближе к окну и к Сильвии, в конце концов повернулся к кузине и тихо произнес:
– Надо полагать, мы не сможем продолжить урок географии, пока тот парень не уйдет?
При словах «тот парень» щеки Сильвии покрылись румянцем, но она лишь ответила беспечным тоном:
– Ну, вообще-то, хорошего понемножку, я так считаю, и на сегодняшний вечер географии с меня достаточно. Но все равно большое спасибо.
Филипп нашел прибежище в оскорбленном молчании. И как же он возликовал, когда его тетя, взявшись готовить ужин, стала производить громкий шум, заглушавший речь гарпунщика, которая теперь не достигала ушей Сильвии. Девушка заметила, сколь доволен Филипп тем, что все ее усилия дослушать конец истории идут прахом! Это ее разозлило, и полная решимости испортить ему удовольствие от его злорадного торжества и воспрепятствовать всяким его попыткам завязать с ней личный разговор, она, продолжая шить, тихо запела себе под нос. Потом вдруг, охваченная желанием помочь матери, ловко соскользнула со стула, прошла мимо Хепберна и, опустившись на колени перед очагом, в непосредственной близости от отца и Кинрэйда, принялась подрумянивать лепешки. И теперь шум, которому Хепберн так обрадовался, обернулся против него самого. Он не слышал веселой болтовни, завязавшейся между Сильвией и гарпунщиком, который все пытался забрать длинную вилку из ее руки.