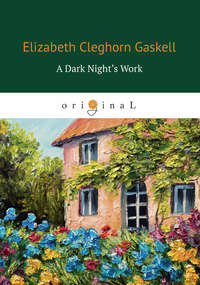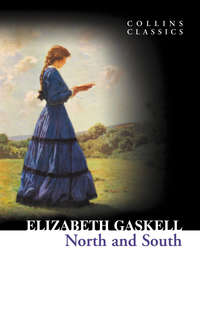Полная версия
Поклонники Сильвии
– Зачем сюда пришел этот моряк? – спросил Филипп у тети. – Ему не место рядом с Сильвией.
– Даже не знаю, – отвечала та. – Нас познакомили Корни, и мой господин прикипел к его обществу.
– И вам он тоже нравится, да, тетя? – почти с грустью в голосе спросил Хепберн, проследовав в маслодельню за миссис Робсон, якобы помогая ей.
– Мне он не люб. Думаю, он рассказывает нам небылицы, проверяя, насколько мы легковерны. Но хозяин с Сильвией высокого о нем мнения, как будто он единственный в своем роде.
– Таких, как он, я вам десятка два покажу на пристани.
– Ты, парень, будь поспокойней. Кто-то кому-то нравится, кто-то – нет. Пока я жива, ты всегда будешь здесь желанным гостем.
Добрая женщина понимала, что племянник обижен на ее мужа и дочь, увлеченных своим новым приятелем, и хотела подбодрить его. Но, как она ни старалась, хорошее настроение к нему не возвращалось: весь вечер он сидел мрачнее тучи, чувствуя себя стесненно и неуютно, но уходить не уходил. Задался целью пересидеть Кинрэйда, дабы доказать, что в этом доме он более близкий человек. Наконец гарпунщик стал прощаться, но до того как уйти, он нагнулся к Сильвии и что-то ей шепнул – Филипп не расслышал; а она в порыве внезапного усердия даже головы не подняла от шитья, лишь кивнула в ответ. Наконец Кинрэйд ушел – после того, как множество раз по всяким пустякам откладывал свой уход, множество раз от двери поворачивал назад: искал повод, как подозревал Филипп, чтобы украдкой взглянуть на Сильвию. И как только он удалился, девушка свернула шитье, объявив, что очень устала и сейчас же пойдет спать. Ее мать, дремавшая последние полчаса, обрадовалась, что и она теперь может отойти ко сну.
– Налей себе еще стаканчик, Филипп, – сказал фермер Роб-сон.
Но Хепберн, довольно резко отказавшись от предложения, встал ближе к Сильвии, желая вызвать ее на разговор, и увидел, что она предпочла бы этого избежать. И он ухватился за самый явный повод, что было неумно с его стороны, ибо тем самым он лишил себя всякого шанса время от времени завладевать ее безраздельным вниманием.
– Судя по всему, географию учить ты не настроена, да, Сильви?
– Сегодня – не очень. – Она притворно зевнула, но все же робко заглянула в его недовольное лицо.
– Не только сегодня – вообще, – упрекнул он ее, все больше гневаясь. – Ты вообще не настроена учиться. Прошлый раз я принес кое-какие книги, намереваясь многому тебя научить, но теперь прошу их вернуть, уж позволь тебя побеспокоить. Я положил их на полку возле Библии.
Филипп рассчитал, что кузина принесет ему книги и он в любом случае будет иметь удовольствие получить их из ее рук.
Не отвечая, Сильвия сходила за книгами и отдала ему, всем своим видом демонстрируя вялое безразличие.
– Итак, с изучением географии покончено, – заключил Хепберн.
Что-то в его тоне насторожило Сильвию, и она подняла на него глаза. В чертах его сквозила нестерпимая обида с налетом горького сожаления и печали, что тронуло ее до глубины души.
– Не сердись на меня, Филипп, ладно? Я не хочу огорчать тебя и готова учиться. Только глупая я, тебе, наверно, очень трудно со мной.
Сильвия фактически соглашалась продолжить занятия, и Филипп был бы рад ухватиться за ее полупредложение, да помешали упрямство и гордость. Не сказав ни слова, он отвернулся от милого умоляющего лица и принялся заворачивать книги в бумагу. Хепберн знал, что кузина недвижно стоит рядом, но вел себя так, будто не замечает ее. Упаковав книги, он без лишних церемоний пожелал всем доброй ночи и ушел.
В глазах Сильвии стояли слезы, хотя в душе она испытывала облегчение. Она сделала кузену щедрое предложение, а он отверг его с безмолвным презрением. Спустя несколько дней отец по возвращении с монксхейвенского рынка в числе прочих новостей сообщил, что встретил Кинрэйда, который собирался домой в Куллеркоутс. Тот передавал свое почтение миссис Робсон и ее дочери и просил Робсона сказать, что он намеревался наведаться в Хейтерсбэнк, чтобы попрощаться с ними, но время поджимает, и он надеется, что они не будут на него в обиде. Только Робсон не счел нужным передавать содержание этой длинной речи, сказанной из вежливости. В действительности, поскольку к делу это послание отношения не имело и предназначалось исключительно для женщин, Робсон начисто позабыл про него, едва оно было произнесено. А Сильвия два дня изводила себя тревогой из-за оскорбительной невнимательности своего героя, ведь в их доме Кинрэйда привечали скорее как близкого друга, нежели случайного знакомого, которого знали всего несколько недель; но потом гнев охладил ее первоначальный пыл, и она продолжала заниматься повседневными делами так, будто гарпунщика вовсе никогда не существовало. Он исчез в густом тумане неведомого мира, из которого явился к ним, – исчез, не сказав ни слова, и, возможно, больше она его не увидит. А может, и увидит, когда он вернется, чтобы жениться на Молли Корни. Может, ее попросят быть подружкой невесты, и что за веселая свадьба это будет! Все Корни – такие приятные люди, и в их семье, похоже, нет всех тех строгостей и ограничений, которым подвергала Сильвию ее собственная мать. Но потом девушку захлестнули стыд и всепоглощающая любовь к собственной матери; она готова была исполнить ее малейшее желание во искупление своего минутного предательства, что она совершила в мыслях; и таким образом Сильвия подвела себя к тому, чтобы попросить кузена Филиппа возобновить уроки, причем озвучила свое пожелание в столь кроткой манере, что он, помедлив, милостиво снизошел до ее просьбы, которую всегда жаждал исполнить.
С наступлением зимы на ферме Хейтерсбэнк на многие недели установилась монотонная размеренность. Филипп приходил и уходил, отмечая, что Сильвия поразительно прибавила в понятливости и рассудительности; возможно, от него также не укрылось, что она заметно похорошела. Ибо она находилась в том возрасте, когда девушки внешне очень быстро меняются, и обычно к лучшему. Сильвия расцвела, превратившись в высокую молодую женщину; ее глаза приобрели более насыщенный оттенок, черты лица – бо́льшую выразительность, и, догадываясь, сколь необыкновенно она мила, при встрече с теми немногими незнакомыми людьми, с которыми ей доводилось общаться, она неосознанно держалась с кокетливой застенчивостью. Филипп приветствовал ее интерес к географии, расценив это как еще одно свидетельство совершенствования ее натуры. Он снова принес на ферму свой географический атлас и многие вечера посвящал обучению кузины. Она проявляла удивительное любопытство к отдельным областям, о которых ей хотелось узнать, и с холодным безразличием воспринимала самое существование городов, стран и морей, куда более знаменитых с исторической точки зрения. Порой она упрямилась, порой выказывала крайнее презрение к учености своего наставника, превосходившего ее в образованности, но, несмотря на все это, в назначенные вечера Филипп регулярно приходил в Хейтерсбэнк, в любую погоду, даже когда свирепствовал колючий восточный ветер, мела метель или под ногами была непролазная слякоть, потому как любил он сидеть чуть позади Сильвии, держа руку на спинке ее стула, и смотреть, как она горбится над столом, приковавшись взглядом – если б еще он мог видеть ее глаза – к одной точке на развернутой карте, и это был не Нортумберленд, где Кинрэйд проводил зиму, а бурные северные моря, о которых он рассказывал им разные чудеса.
Однажды ближе к весне Сильвия заметила, что к ним на ферму идет Молли Корни. Девушки не виделись много недель, так как Молли гостила у родственников на севере. Сильвия открыла дверь и встала на пороге, поеживаясь и улыбаясь от радости, что она снова видит подругу. Не доходя до дома нескольких шагов, Молли крикнула:
– Сильвия, ты ли это?! Как же ты повзрослела! А хорошенькая какая стала!
– Не болтай чепухи моей дочери, – урезонила ее Белл Роб-сон.
Законы гостеприимства заставили ее бросить глажку и подойти к двери; но, как мать ни старалась всем своим видом показать, что она считает слова Молли чепухой, ей не удалось скрыть улыбки, осветившей ее глаза, когда она обняла Сильвию за плечи, с теплотой и любовью, как владелец сокровища, достойного похвалы.
– Глаз не оторвать, – не унималась Молли. – За то время, что мы не виделись, она стала просто красавицей. И если я ей это не скажу, мужчины скажут обязательно.
– Прекрати, – осадила ее Сильвия, оскорбившись. Она отвернулась в смущении, досадуя на столь откровенное восхищение.
– Сама увидишь, – верещала Молли. – Долго вы ее не удержите, миссис Робсон. А как говорит моя мама, незамужние дочери – это вечная головная боль.
– Вас у вашей мамы много, а у меня она одна, – возразила миссис Робсон с печальной суровостью в голосе, ибо теперь ей не нравились рассуждения Молли. Но та лишь хотела подвести разговор к новостям о себе самой, от которых ее просто распирало.
– Вот-вот! Маме я так и сказала: имея столько детей, она должна быть благодарна, что одну из дочерей скоро сбудет с рук.
– Кого? Которую? – оживилась Сильвия, сообразив, что Молли принесла весть о свадьбе.
– Как кого? Меня, конечно! – рассмеялась та, чуть покраснев. – Зря, что ль, я из дома уезжала – во время поездки мужа себе подыскала, как раз такого, какой мне нужен.
– Чарли Кинрэйд, – заулыбалась Сильвия, поняв, что теперь она может выдать секрет Молли, который до сей минуты свято хранила.
– Да на что мне сдался Чарли Кинрэйд?! – Молли тряхнула головой. – Что толку от мужа, который по полгода проводит в море? Ха-ха, мой господин – благоразумный лавочник из Ньюкасла, с Сайда[55]. Я считаю, что сделаю хорошую партию, и тебе желаю удачи, Сильвия. Понимаете, – обратилась она к миссис Робсон, рассудив, что та лучше, чем Сильвия, способна оценить существенные преимущества ее выбора, – хоть мистеру Брантону почти сорок, доход у него более двухсот фунтов в год, и для своих лет он хорош собой, и нравом к тому же добрый, спокойный человек. Ну да, он, разумеется, уже раз был женат, но все его дети умерли, кроме одного; а я детей люблю, буду хорошо кормить их и рано укладывать спать, чтоб не путались под ногами.
Миссис Робсон сдержанно поздравила Молли, но Сильвия молчала. Она была разочарована: брак с торговцем, по ее мнению, был не столь романтичным, как с героем-гарпунщиком.
Молли смущенно рассмеялась, понимая Сильвию лучше, чем та думала:
– Сильвия меня не одобряет. А собственно, почему, подруга? Для тебя же лучше. Чарли теперь свободен, а если б я вышла замуж за него, прибрать его к рукам уже не получилось бы, да и он не раз говорил, что из тебя вырастет милашка.
Окрыленная успехом, Молли чувствовала себя независимой и выказывала смелость суждений, что редко позволяла себе прежде, и уж тем более не при миссис Робсон. Даже Сильвию раздражали ее тон и манеры: она держалась развязно, насмешливо, вызывающе. Миссис Робсон и вовсе находила поведение Молли непристойным.
– Сильвия замуж не торопится, – отрывисто и сухо произнесла она. – Ей и дома неплохо, со мной и с отцом. А ты можешь болтать что угодно, мне все равно.
Молли немного притихла, но все равно, пребывая в эйфории от скорого удачного замужества, ни о чем другом говорить не могла; и когда она ушла, миссис Робсон, что было ей несвойственно, разразилась уничижительной тирадой:
– Бывают же такие девицы. Как петухи на навозной куче – заманят под венец какого-нибудь простофилю и давай горланить: кукареку, я мужа изловила, кукареку. Терпеть таких не могу. Прошу тебя, Сильви, будь поосмотрительней с Молли. Она ведет себя совершенно неприлично, поднимая столько шуму из-за мужчин, словно ей двухголовых телят показали.
– Но у Молли доброе сердце, мама. Только я ведь полагала, что она обручена с Чарли Кинрэйдом, – задумчиво промолвила Сильвия.
– Эта девица обручится с первым встречным, который согласится взять ее в жены и содержать в достатке. У нее только это на уме, – презрительно фыркнула Белл.
Глава 11. Планы на будущее
На исходе мая Молли Корни вышла замуж и уехала в Ньюкасл. И хотя женихом на свадьбе был не Чарли Кинрэйд, Сильвия, как и обещала, выступила в роли подружки невесты. Но в период между помолвкой и бракосочетанием Молли дружба между девушками, которых свели вместе обстоятельства – соседство и одинаковый возраст, – заметно ослабела. Во-первых, Молли была настолько поглощена приготовлениями к свадьбе, настолько упивалась своей удачей, тем, что она выходит замуж, да еще раньше старшей сестры, что все ее недостатки проявились в полную силу. Сильвия считала ее эгоисткой, миссис Робсон – бесстыдницей. Еще год назад Сильвия горько сожалела бы, что ей приходится расстаться с подругой; теперь же она почти радовалась, что будет избавлена от нескончаемых требований сопереживать и рассыпаться в поздравлениях, требований, исходивших от человека, которого не заботили ни мысли, ни чувства окружающих, по крайней мере, в те недели «кукареканья», как выражалась миссис Робсон. Белл не очень-то ценила юмор, но, в кои-то веки придумав шутку про петуха, она теперь то и дело повторяла ее.
Тем летом каждый раз при встрече с кузиной Филипп находил ее прелестнее, чем прежде: казалось, в облике ее появлялся новый оттенок цвета, некое свежее очарование, подобно тому, как с каждым летним днем распускаются цветы, показывая новые грани своей красоты. И это был не плод воображения влюбленного Филиппа. Эстер Роуз, изредка встречавшая Сильвию, каждый раз с грустью честно признавала, что недаром Сильвия внушает столь огромное восхищение и любовь.
Однажды Эстер увидела, как та сидит подле матери на рынке; рядом стояла корзина, а на чистом полотенце, накрывавшем желтые брикеты сливочного масла весом в один фунт, Сильвия разложила веточки шиповника и жимолости, которые она нарвала по дороге в Монксхейвен. На коленях у нее лежала соломенная шляпка, и Сильвия занимала себя тем, что вплетала цветки в ленту, обвивавшую тулью. Потом она взяла шляпу, вытянула ее на руке и повертела так и эдак, склонив набок голову, чтобы лучше видеть результат своего труда. И все это время Эстер с восхищением и тоской в глазах наблюдала за ней в просветы между складками ткани, вывешенной в витрине лавки Фостеров, наблюдала и думала, знает ли Филипп, стоявший за соседним прилавком, что его кузина на рынке, совсем близко от него. Потом Сильвия надела шляпку и, посмотрев на окна Фостеров, перехватила взгляд Эстер, в котором сквозил живой интерес. Она улыбнулась и покраснела, смутившись от того, что за ней наблюдали, пока она тешила свое тщеславие, и Эстер улыбнулась в ответ, но как-то печально. Потом порог лавки переступил покупатель, и она принялась его обслуживать – сегодня, как и в любой базарный день, торговля шла бойко. Занимаясь посетителем, в какой-то момент она заметила, что Филипп, увидев на улице нечто услаждающее его взор, прямо без головного убора ринулся из магазина. На стене близ прилавка, где стояла Эстер, висело маленькое зеркало, помещенное в этот укромный уголок для того, чтобы добропорядочные женщины, приходившие в магазин за головными уборами, могли оценить, подойдет ли им обновка, прежде чем купить товар. Обслужив покупателя, Эстер стыдливо прошла в тот угол и украдкой посмотрелась в зеркало. И что же она увидела? Бледное лицо, мягкие темные волосы, не тронутые блеском, не озаренные улыбкой меланхоличные глаза, плотно сжатые в недовольстве губы. Вот что ей приходилось сравнивать с ясным миленьким личиком, за которым она наблюдала на солнечной улице. Подавив вздох, Эстер вернулась за прилавок, настроенная угождать капризам и прихотям покупателей еще более терпеливо, чем до того, как она увидела в зеркале свое унылое отражение.
Саму Сильвию появление Филиппа не очень обрадовало. «Выставил меня полной дурой, – подумала она, – а себя – посмешищем, несется по рынку как шальной». И когда он принялся расхваливать ее шляпку, она в раздражении повытаскивала из ленты цветы, бросила их на землю и растоптала.
– Зачем ты так, Сильви? – удивилась ее мать. – Цветы смотрелись красиво, хоть и могли испачкать шляпку.
– Мне не нравится, что Филипп со мной так разговаривает, – надула губы Сильвия.
– Как «так»?
Но девушка не могла повторить его слова. Она понурилась, покраснела, озабоченно сдвинула брови – в общем, вид имела недовольный. Филипп выбрал неудачный тон, выражая свое восхищение.
И это еще раз доказывает, что разные люди по-разному воспринимают своих ближних, когда я говорю, что Эстер взирала на Филиппа как на самого лучшего и приятного из всех мужчин, что она когда-либо знала. Если его не спрашивали, сам он о себе не рассказывал, посему его родственники из Хейтерсбэнка, поселившиеся в этом краю всего пару лет назад, ничего не ведали об испытаниях, выпавших на его долю, и о тяжелых обязанностях, что ему приходилось выполнять. Конечно, тетя Филиппа очень верила в него, потому что немного знала характер племянника и потому что он был ее роду-племени, но мелкие подробности его прошлого оставались для нее тайной. Сильвия уважала Филиппа как друга матери и относилась к нему неплохо, пока он держался с присущим ему самообладанием, но в его отсутствие почти не думала о нем.
А вот Эстер, наблюдавшая за ним изо дня в день многие годы, с тех пор как он устроился посыльным в лавку Фостера, – наблюдавшая спокойно, благочестиво, но внимательно, – видела, как предан он интересам хозяина, знала, сколь заботливо и внимательно он ухаживал за своей ныне покойной матерью, во многом отказывая себе с безропотным самоотречением.
Редкие часы досуга Филипп посвящал самообразованию, что импонировало Эстер, тоже имевшей пытливый ум; она с радостью внимала ему, когда он делился недавно приобретенными знаниями – знаниями, наводившими скуку на Сильвию, – хотя, поскольку Эстер обычно слушала молча, только человек, более заинтересованный в том, чтобы постичь ее чувства, нежели Филипп, заметил бы перемены в ее лице – слабый румянец на бледных щеках, блеск глаз под приспущенными веками, – когда бы Хепберн ни открыл рот. Эстер не помышляла о любви ни с его, ни со своей стороны. Считала, что любовь – это суетность, тщета, о ней не то что говорить, даже думать не стоит. До того как Робсоны поселились в их краю, у нее раз или два мелькала мысль о том, что спокойная, размеренная жизнь, которую они вели с Филиппом, живя и работая под одной крышей, возможно, когда-нибудь в отдаленном будущем увенчается их браком; и ей невыносимы были робкие ухаживания Кулсона, который, как и Филипп, квартировал в доме ее матери. Они вызывали у нее отвращение.
Но с появлением Робсонов Филипп так часто стал проводить вечера в Хейтерсбэнке, что всякие надежды, которые неосознанно питала Эстер, угасли сами собой. Поначалу, когда она услышала про Сильвию, юную кузину, что стояла на пороге взросления, ее объяло мучительное чувство сродни ревности. Однажды в ту пору она осмелилась спросить у Филиппа, как выглядит Сильвия. Безо всякого воодушевления он сухо описал внешность кузины – черты лица, волосы, рост, – но Эстер, к собственному удивлению, проявила настойчивость, задав главный вопрос:
– Она красивая?
На землистых щеках Филиппа проступили красные пятна, но он ответил безразличным тоном:
– Надо полагать, некоторые находят ее красивой.
– А ты? – не сдавалась Эстер, хотя и сознавала, что его коробит ее вопрос.
– Незачем говорить о таких вещах, – с неудовольствием в голосе резко ответил он.
С той поры Эстер подавляла свое любопытство. Но в душе ее царило смятение, она изводила себя подозрительностью, пытаясь понять, считает ли Филипп красивой свою юную кузину, пока не увидела его и ее вместе в тот день, о котором мы говорили, – когда Сильвия пришла в лавку, чтобы купить новый плащ; и после того случая сомнений у нее не осталось, теперь она знала наверняка. Белл Робсон красота дочери, хорошевшей с каждым днем, тоже давала повод для беспокойства. Она понимала, что определенные факты чреваты нежелательными последствиями – вывод, к которому она пришла в результате размышлений, скорее основанных на интуиции, чем на рассудительности. Конечно, материнскому самолюбию льстило, что Сильвия приводит в восхищение противоположный пол, но Белл это тревожило. Восхищение это проявлялось по-разному. Если Сильвия сидела с ней на рынке, создавалось впечатление, что всему мужскому населению Монксхейвена в возрасте до сорока лет доктора срочно прописали молочно-яичную диету. Поначалу миссис Робсон думала, что это естественная дань отменному качеству ее фермерской продукции, но потом стала замечать, что у нее не больше шансов, чем у соседей, быстро распродать свой товар, если Сильвия оставалась дома. На овечью шерсть, что хранилась в амбаре, находилось покупателей больше, чем прежде; симпатичные молодые мясники приходили за телятиной еще до того, как принималось решение продать мясо, – словом, те, кто желал полюбоваться на хейтерсбэнкскую красавицу, всегда могли найти повод для визита на ферму. Все это Белл настораживало, но она вряд ли сумела бы объяснить, чего она боится. Правда, домашние не замечали, чтобы чрезмерное внимание окружающих испортило Сильвию. Она всегда была немного легкомысленной и таковой оставалась, но как говаривала ее мать: «На молодые плечи головы стариков не приставишь»; и, если родители журили ее за беспечность, Сильвия неизменно выказывала искреннее раскаяние. Честно говоря, только мать с отцом и видели в ней по-прежнему нескладного тринадцатилетнего подростка. Вне стен родного дома о ней ходили самые противоречивые мнения, особенно если послушать женщин. Одни называли ее «неказистой дылдой», другие – «прелестной, как первая июньская роза, и милой по характеру, как вьющаяся жимолость»; она была и «язвой, острой на язык, которым могла ранить в самое сердце», и «солнышком ясным, озарявшим все вокруг, где бы она ни появилась»; она была букой и жизнерадостной, остроумной и молчуньей, сердечной и черствой – в зависимости от того, кто ее характеризовал. В действительности особенность Сильвии была такова, что окружающие ее либо восхваляли, либо винили во всех грехах. В церкви или на рынке она невольно притягивала взоры: никто не мог забыть о ее присутствии, как это бывало в случае даже с более привлекательными девушками. Все это немало беспокоило ее мать, которая предпочла бы, чтобы ее дитя лучше уж вовсе обходили молчанием, нежели судачили о ней кто во что горазд. По разумению Белл, женщина тогда достойна уважения и доверия, если она идет по жизни неприметно и не дает повода трепать свое имя, которое может упоминаться лишь в связи с ее хозяйственностью, мужем или детьми. Если о какой-то девушке много говорили, пусть даже в хвалебных тонах, та сразу много теряла в глазах миссис Робсон; и когда соседи начинали славословить в адрес ее собственной дочери, Белл холодно отвечала: «Да, она хорошая девочка» – и меняла тему разговора. Другое дело ее муж. Человек экспансивный, более свободных взглядов, он охотно слушал и еще более охотно наблюдал, как восторгаются красотой его дочери, полагая, что эти похвалы положительно отражаются и на нем. Он никогда не задумывался о том, насколько популярен он у окружающих, и еще меньше – о том, уважают ли его. Куда бы он ни пришел, его всюду привечали довольно тепло, поскольку по натуре он был незлобив и общителен, в молодости ввязывался в рискованные авантюры, что в определенной мере давало ему право высказывать свои суждения о жизни в авторитетной манере, которая вообще была ему свойственна; однако водить компанию он предпочитал не с респектабельными стариками, склонными к трезвому образу жизни, а с более молодым поколением. И он заметил, не задумываясь о причинах, что лихие, беспутные парни находят его общество более желанным, когда рядом с ним Сильвия. Кто-нибудь из них, один или двое, по воскресеньям в послеобеденные часы прогуливались до Хейтерсбэнка и шатались без дела по полям вместе со старым фермером. Когда на ферме гостил кто-то из молодых мужчин, Белл, изменяя своей многолетней привычке, не смела прикорнуть днем, чтобы не оставлять без пригляда Сильвию, и к гостям демонстрировала пренебрежительное обхождение, насколько это позволяли ее понятия о гостеприимстве и долг перед мужем. Но если те не входили в дом, старик Робсон обязательно на обход своей земли брал с собой Сильвию. Белл следила за ними из окна верхнего этажа: молодые люди стояли в позах слушателей, а Дэниэл разглагольствовал, подкрепляя слова взмахами своей толстой клюки; Сильвия же, повернувшись вполоборота, словно чтобы уклониться от слишком восторженного взгляда, рвала цветы из живой изгороди. Эти воскресные послеполуденные прогулки все лето отравляли Белл жизнь. В конце концов миссис Робсон всеми возможными способами стала пытаться сделать так, чтобы муж не брал Сильвию в Монксхейвен каждый раз, как он туда отправлялся, на что требовалась вся ее хитрость, поскольку женщина она была прямодушная. Но тут перед ней снова встала дилемма, ибо по ясном размышлении она поняла, что поступает во вред мужу. Ведь если Сильвия шла с отцом, тот никогда не напивался, что, как бы то ни было, благотворно сказывалось на его здоровье (в то время и в тех местах пьянство не считалось грехом), посему иногда ей дозволялось сопровождать Дэниэла, дабы удерживать его от безрассудства: он слишком любил свою дочь и гордился ею, чтобы позорить ее своей неумеренностью при всем честном народе. Но как-то в воскресенье, в первых числах ноября, Филипп пришел в Хейтерсбэнк раньше своего обычного часа, и тетя, увидев, сколь он бледен и подавлен, воскликнула: