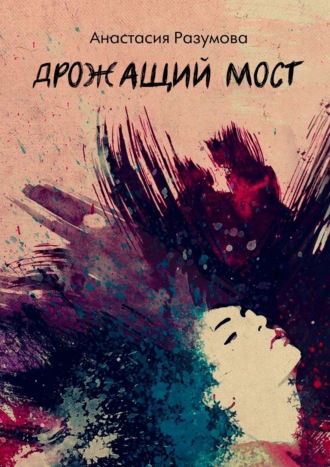
Полная версия
Дрожащий мост
Бабушка не была татаркой, но носила халат и шаровары под ним на манер национального костюма. Голову она подвязывала ярким платком, по которому мы узнавали ее издалека: вот возвращается с рынка, вот собирается и уплывает на сельский сход «чесать языком»», вот мелькает над грядками с ярко-красными помидорами в тугих меридианных перетяжках.
К бабушке ходил великовозрастный племянник, которого она звала Шмелем. Рыхлый, безволосый, с неожиданно тонким голосом, он вздыхал над открытой банкой розового варенья, зачерпывал и говорил мечтательно: «Некта-ар». Сам шнырял глазами. Мы знали: разыскивает хмельную настойку. И стащит, если найдет. А уходя, обязательно ткнет пальцем в живот Ряшку: «У-у, животная». Ряшкой звали старую рыжую таксу. Когда собака начинала бегать во сне, бабушка беззвучно смеялась: «Ай-ай, как сикотит!» И Лиза улыбалась…
Я опустился на колени. Рельсы были прохладны, но все еще пахли нагретым металлом, будто только что проехал трамвай. Нарвал ромашек, положил букетик на выпирающее из травы стальное ребро. Глупо, конечно, пути и так утопали в цветах. Но мне хотелось сделать что-то, что выдало бы меня. Что-то, отчего она поняла бы: я был здесь. Принес ей цветы. В колени впились иголки, мелкие камешки. По велосипеду, по коробкам уже хозяйски ползали муравьи. И по цветам, которые я положил на рельсы, тоже ползали муравьи, наверное, изумляясь: откуда это? что это?
Здесь, на полуразобранных рельсах, ее нашли. Никто не знал, что Лиза тут делала. Она вообще редко куда-то ходила одна. Это я был тринадцатилетним дикарем, а у моей сестры – подружки, друзья, однокурсники, такая славная и веселая жизнь! Год или два назад мы с родителями приехали сюда. Мать захотела. Шел октябрьский колючий дождь. Отец держал над нами большой зонт. По лицу его двигались темные тени. Этого, конечно, не могло быть, но я как будто видел примятую траву – очерк Лизы. Больше мы не приезжали.
Даже разделавшись с бабочками, нырнув обратно, в солнечный и душный город, я продолжал думать о Концевой, и мне хотелось сровнять с землей это страшное место вместе со всеми торчащими из преисподней рельсами.
Общество слепых собиралось в блочном здании серого цвета. Даже хорошо, что слепые не могли видеть грубой, словно незаконченной, кладки бетонных плит, иначе они б точно не захотели здесь встречаться. Рядом росли запыленные липы. Городские вороны, вездесущие и непритязательные, плотно усеивали верхушки деревьев. Чудно, как они там только держались. По стене бежала загадочная надпись: «Анна свободна», только эти два слова, над судьбой которых невозможно было не задуматься, скрашивали унылость места. Сама ли неведомая Анна решила оповестить мир или этой фразой ее отшил какой-нибудь обиженный парень? – размышлял я.
Каждый раз слепые хотели напоить меня чаем. Нигде больше не были мне так рады, хотя другим людям я привозил вещи куда более ценные, чем газеты. Я думаю, что человек должен чего-то лишиться, чтобы стать человеком. Жестоко, но до нас по-другому не достучаться. Если бы эти люди не потеряли зрение, они бы меня даже не заметили, вот такой парадокс. Ну, раскатывает по городу долговязый парень в шаляй-валяй обрезанных джинсах. Может быть, кто-нибудь из них махнул бы мне вслед кулаком, решив, что я поцарапал его машину.
Честно, я так думаю еще и потому, что после того, как Лизу нашли, родители решили не разводиться. Они до сих пор вместе живут, хотя какая уж там любовь. Но и ссориться по пустякам на краю черного обрыва им уже не хочется. Мне тоже не хочется. Мы самая мирная семья на всем белом свете. За пять лет – ни одной ссоры. Нужно было лишиться многого, чтобы к этому прийти: утром мать готовит завтрак, мы чинно собираемся за столом. Серьезно, со всеми аристократическими приличиями, скатертями, одинаковыми тарелками.
– Передай, пожалуйста, хлеб, – говорит отец.
– Да, конечно, – отвечаю я.
– Сегодня каша как будто немного пригорела, – вступает мать.
– Нет, что ты! Очень вкусно! – говорим мы с отцом в голос.
Иногда биться головой о стену хочется, вот какая мы семья.
Главный у слепых – Карпович. Ему лет двести, но он еще ничего. Вероятно, его обратили во время Революции. Я не знаю другого такого старика, который всегда держался б с ровной спиной, будто капитан у штурвала, и, имея такую пробоину в боку, никогда не ныл. Говорят, он создал это общество, когда начала слепнуть от глаукомы его любимая, уже покойная, жена. Я бы не удивился, если б узнал, что он ослеп ради нее. Выколол глаза собственной рукой, например. Чтобы ей не было так уж одиноко во мраке. Такой вот старомодный человек.
– Нам привезли почту! Почта! – взволнованно говорил он, постукивая деревянной тростью.
Карпович появлялся первым, а за ним – остальные, и единственная зрячая – сотрудница общества – тоже почтительно шла сзади. Старик напоминал древнего еврейского праведника, пробивающего посохом путь в новую жизнь своему наивному, беспомощному народу.
Я отдавал газеты Карповичу. Всегда казалось, что вот-вот выронит, но он никогда ничего не ронял, хотя слеп был абсолютно.
– Чаю! Попейте с нами чаю! – начинали наперебой кричать женщины, улыбаясь в темноту.
– Конечно, молодой человек, сегодня у нас чай с чабрецом, – с достоинством присоединялся Карпович, у них всегда был чай с чабрецом.
– Я бы с удовольствием, но работа… – отвечал я им.
Это был привычный ритуал, который ни одна сторона не нарушила ни разу. Мне хотелось бы попить с ними чаю и спросить, каким они меня представляют. Но, наверное, не слишком приятно слепому, когда его расспрашивают: скажите, а каким вы меня представляете – хорошим человеком или дурным? Ведь не всех же вы зовете пить чай?
В этот раз я позвонил в общество уже в половине двенадцатого. Наверняка они заждались газет, и я удивился, что дверь не раскрылась нетерпеливо после первого же звонка. Отворилась как-то тихо и осторожно через долгую минуту, на пороге стояла сотрудница с красным, немного опухшим лицом.
– Карпович, – сказала она и бессильно опустила руки.
Карпович больше никогда не узнает, о чем пишут в газетах, – вот что это значило. Женщина кивнула: зайди. Впервые мне не хотелось входить в мягкий стариковский сумрак, пропитанный запахом ношеного сукна, допотопного сандалового мыла и привидений. Но из уважения к Карповичу я вошел. Все-таки он был приветлив со мной, хотя мог бы не замечать.
Слепые, как всегда, сидели на стульчиках кругом, сложив ладони на коленях, будто послушные школьники или члены тайного братства. В центре обычно устраивалась сотрудница и читала им вслух. Кто-то в это время умудрялся вязать, ничего не видя. Кто-то крутил пальцами гладкие бусинки-четки. Некоторые ловко клеили конверты. Их руки редко дремали.
Сегодня они выдвинули в центр лакированный черный столик на стремительных ногах, тот, что раньше стоял у входа, на него складывали шляпы и сумочки. На столике стояла фотография Карповича. Молодого, с блестящими глазами и залихватскими усиками. Знаки отличия – царской армии! За портретом поблескивала маленькая урна в форме греческой вазы.
Никто не сказал ни слова, когда я вошел. В комнате нудно гудел комар. Рыжебровый старичок обмахивался женским веером. Остальные не шевелились. Меня кто-то робко тронул за локоть. Обернувшись, я увидел доброе мутноглазое лицо Наденьки, самой молодой. Пару раз наблюдал ее в городе с двумя детьми. Девочке – лет десять, мальчишке – шесть, молочные зубы только начали выпадать. Дети заменяли Наденьке глаза. Они брали ее под руки с обеих сторон и рассказывали, что впереди, что по сторонам. Я сам слышал: «Мама, а на деревьях такие маленькие зубастые листики! А за нами едет большой желтый экскаватор, и гусеницы у него в глине. Впереди тетенька с ящиком, продает мороженое. Мама, сказать, какое она продает мороженое?» Мировые дети!
Наденька пошлепала ладошкой по пустому стулу рядом с собой. Я посидел у Карповича минут десять. Мне принесли знаменитый чай с чабрецом. Была какая-то высшая несправедливость, что этот чай, который мне нахваливал Карпович, я пью сейчас без него. Хотя двести лет жизни – куда уж больше. Лиза не прожила и девятнадцати.
– Вы нам поможете? – прошелестела хорошо одетая седая женщина в стильных черных очках, не поворачиваясь ко мне. Она не была похожа на инвалида, скорее, на пожилую певицу, которая прячется за очками от назойливых поклонников.
Рядом тут же оказалась сотрудница общества, забрала у меня пустую чашку, склонилась головой к голове. Стало еще жарче от ее раскаленного, кислого дыхания.
– У него никого не осталось, кроме нас, – сказала она, в это «нас» как будто заключая и меня, отчего я смутился. – Он просил развеять его прах с пристани. Ведь наш Карпович был настоящий морской волк и мечтал упокоиться в воде.
Я вспомнил недавнее купание в обмелелой речке, теплый болотистый дух, совсем не вязавшийся с морскими просторами и приключениями.
– У тебя единственного быстрые ноги и зоркие глаза, – сказала сотрудница. – И велосипед.
– И доброе сердце, – добавила Наденька. Улыбка ее, не сосредоточенная на моем лице, а рассеянная по всей комнате, была восхитительно грустной.
– Мы командируем вас на пристань, молодой человек, – сказала седая женщина в красивых очках. – Развейте прах нашего товарища над водой. Исполните его последнюю волю.
Мне стало нехорошо, правда. Не то чтобы я какой-то неженка, испугался урны с прахом. Нет. Я всегда думал, что это по-другому делается. Торжественно, что ли. Самые близкие люди, самые преданные друзья и родные. Никак не случайный мальчишка-курьер, который завез газеты.
А они уже подходили к урне, осторожно перебирая своими палочками по полу, и некоторые целовали ее, будто святыню, и плакали, прощаясь с Карповичем. Сотрудница общества вручила мне тяжелый каменный сосуд, на ее белых ресничках дрожали слезы.
– В путь, – прошептала она.
И слепые подхватили, как послушные школьники:
– В путь! В путь!
Я оказался на душной улице с ватными ногами и прахом Карповича в руках. Пристроил урну в корзину, поверх всех посылок. Потом решил, что морской волк не должен отправляться в последний путь вот так – среди почтового барахла, париков, тряпок, электрических массажных поясов. Я прижал урну к себе – получилось, к сердцу – и поехал. Каменный бок быстро нагрелся. Выезжая на солнцепек из редкой, сквозной тени деревьев, я шептал:
– Потерпите, пожалуйста. Еще чуть-чуть.
Пристань, конечно, была на другом конце города. И, конечно, в эту пору более удручающего места для старого морского волка трудно было представить. За массивными воротами скрывалось приземистое здание грязно-желтого камня с корабликом на килевидном фронтоне. Чуть ниже – выложенная квадратными плитами площадка с парой пустующих скамеек. В углу, строгой ладьей на шахматном поле, возвышалась стеклянная будка. В будке кто-то сидел, в открытую дверь лениво летела шелуха от семечек. Пахло рыбой. Причал был сух и гол. Сваи почти во весь рост выступили из зеленоватой воды. Грузные пароходы, набычившись, спали беспробудным сном и во сне ржавели. Солнце ослепительно запрыгало по воде. Я зажмурился. Оставил велосипед у скамьи. В обнимку с урной двинулся к причалу, излучавшему жар вместо желанной прохлады.
– Эй! – без особого усердия окликнул меня кто-то из будки. – Туда нельзя.
Пришлось развернуться. В будке сидел полураздетый человек и грыз семечки. По лицу его, по розовому безволосому пузу и расщелине меж грудей бежал пот. Я сразу понял, что долго спорить со мной он не сможет.
– Понимаете, у меня тут… прах, – я вытянул урну вперед.
Человек вздрогнул и отшатнулся.
– Че-го?
– Это старый моряк, Карпович. Мой родственник, – сказал я. – Он просил перед смертью развеять его прах над рекой. Понимаете? Последняя воля.
Человек вдруг накинул на плечи белую рубашку с шевронами, стесняясь своей наготы перед прахом Карповича. Прокашлялся. Оглянулся. Пристань была пуста, словно от нее только что отчалил Ной со всем живым на земле.
– Ну-у, – нерешительно протянул человек. – Тут запрещено посторонним…
– Воля покойного, – возразил я.
И он сдался. Может быть, в нем проснулся морской волк.
– Только быстро.
Я прошел по мосткам, к самому концу причала. Солнце заливало все вокруг. Приятно пружинящие под ногами доски напомнили деревянную террасу крымского дома, только вытянутую на несколько метров руками какого-то силача. На террасе бабушка сушила густо-оранжевые салгирские абрикосы, и в эту пору у меня всегда болел живот от пиратской добычи.
Под причалом тихо плескалась вода, покрытая сине-зеленой пенкой.
Урна неожиданно легко открылась. По спине пробежал холодок. Я оглянулся. На берегу стоял человек в расстегнутой белой рубашке и смотрел на меня во все глаза.
Тогда я перевернул урну над водой, и из нее вылетело беловатое облачко пыли. Часть ее растворилась в воздухе, часть упала на мостки и мои кеды. В реке пыль потемнела, обретая осязаемость, тяжесть. Наверное, в этот миг надо было что-то сказать. Или хотя бы подумать что-то хорошее. Жаль, что я ничего не знал о Карповиче, даже то, что он был моряком. Я смотрел в воду, пока прах не растворился полностью и на поверхность не вернулась слепящая солнечная рябь, легкая и радостная.
Уже возвращаясь назад, подумал: а что же делать с урной? Вот она, у меня в руках – все еще тяжелая, гладкая и теплая. Снова подошел к носу причала, опустил пустой сосуд в реку. Булькнули пузырьки воздуха, каменная урна качнулась и ушла под воду, мелькнув на прощание черным зевом, словно раскрытым ртом. Я представил, что совсем скоро погребальный сосуд врастет в илистое дно и однажды в нем поселится какой-нибудь рак-отшельник. Вечное торжество жизни, даже забавно. Проходя мимо человека в белой рубашке, кивнул ему строго, без улыбки.
С маршрута я сбился и в театр неумолимо опаздывал. Не хотелось давать Очкарику пищу для недовольств, поэтому не стал заезжать в рыболовный магазинчик, как обычно по пути. Магазинчик этот я любил с детства. Хозяин – человек старый и добродушный – смотрел на меня лукаво, усмехался в усы, желтые и густые под носом, стекающие к подбородку заиндевевшими жидкими хвостиками. Он понимал, что ничего я не куплю, а прибегаю просто так, поглазеть на густые перелески удилищ, поплавки и тубусы, свинцовые грузила, мелкоячеистые садки и раколовки, на дивные россыпи блесен и мушек, напоминающих новогодние игрушки. В углу стояло ведро с прикормкой, иногда хозяин просил меня нарыть червей под замшелой колодой за магазинчиком.
Однажды я все-таки купил блесну – маленькую золотую рыбку, блестящую и прохладную, с двумя хищными крючками. «Зачем, у нас даже спиннинга нет?» – удивился отец. «Вот это штука, – неожиданно вступилась Лиза, подержала ее на ладони и вернула. – Иллюзия, которая стоит кому-то жизни».
Каждый раз, проезжая мимо (а только за последний месяц я проезжал раз пятнадцать), я покупал новую блесну. Они висели у меня над столом, эти металлические рыбки. Когда в раскрытое окно дул ветер, стучали друг о дружку, будто кто-то играл печальную мелодию на глокеншпиле. Знай я парня, собирающего такие странные штуки, как блесны, сам покрутил бы у виска. Но это единственные вещи, которые я не хотел бы уничтожить в мусорном костре.
В театре был мертвый сезон. Невыносимое место в любой сезон, если честно. Второе заведение, где можно встретить столько людей с тонким артистическим складом, – это сумасшедший дом. У них даже в бутафорском цехе все с мозгами набекрень. Как-то привез красную ткань, а усатая, похожая на пожилую рысь тетка (сценограф, сказали потом) раскричалась, что это – пионерский уголок, а не кровавый подбой.
Коробка была большой и тяжелой. Хорошо, что воздух в гулком здании никогда не нагревался выше майских заморозков, все легче тащить барахло на чердак – вотчину ненормальных художников, которым ничего не стоит ткнуть тебе пальцем в грудь и скомандовать: «Вот так стой и не шевелись» – и убежать куда-то на полчаса.
Я поднимался по черной лестнице. Парадная – с тяжелыми гранитными ступенями, начинающимися за кованой аркой – открывалась только для зрителей. Между этажами курила печальная артистка. Неброской «французской красотой» она напоминала мою новую знакомую Сто пятую – такая же худая и большеротая. Лицо ее терялось в дыму. Поэтому я даже вздрогнул от ее цепкого, ледяного прикосновения.
– Ненавижу тебя, Генри! – прошептала она, корча злую гримасу. – За собственную низость – ненавижу!.. Тьфу ты, глупость какая, да? Не идет, не идет…
Я пожал плечами. Артистка печально выдула клуб дыма, но локоть мой не отпускала.
– В синем домике жила очень красивая девочка, – сказала она, нахмурив брови. – А в красном – очень добрая, но некрасивая. Обе любили апельсины, страсть как!
Я послушно стоял меж этажей. Сумасшедший дом. Чтобы я еще раз сюда…
– Ехал однажды на велосипеде Иван. Дурак не дурак, а так. К красивой, конечно, ехал, апельсин вез, – сказала артистка. – Но тут – пф-ф, ш-ш-ш – гвоздь в колесо. Что тут делать? Клей нужен и заплатка на камеру.
Вот сдувшееся колесо она здорово изобразила.
– А в окне красного домика уже добрая девочка стоит, у нее и клей, и заплатка, и насос желтенький в руках. Иван вздохнул, да делать нечего. Свернул к ее домику. Апельсин протягивает. Добрая девочка выбежала, радостная. Залатала камеру, надула. Ведет Ивана к себе.
Вдруг артистка выпучила глаза и зашептала вкрадчиво, будто ведьма:
– Да только недо-обрая она уже была. Потому что это она гвозди по дорожке раскидала. Двадцать лет девице – и ни одного жениха! Будешь тут доброй.
Она пожевала губы, посмотрела на меня сквозь дым:
– Ты спросишь, а что Иван? – хотя я ничего не спрашивал, она продолжила с тоской в голосе. – Так и стал жить с некрасивой и недоброй. А красивая пошла в театр служить. Справедливо, скажи?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.




