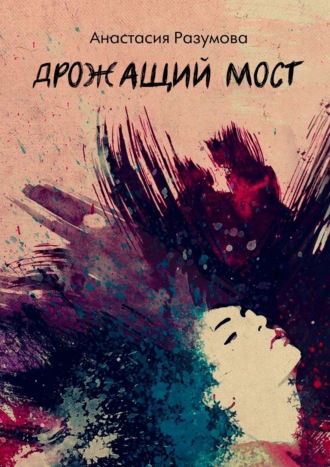
Полная версия
Дрожащий мост

Дрожащий мост
Анастасия Разумова
© Анастасия Разумова, 2023
ISBN 978-5-4496-8509-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От нас поднимался пар, честное слово. День был душный, ни одна занавеска на окнах не шевельнется. Мы уже заполнили тесную комнатку под завязку и друг друга утрамбовывали локтями, а двери все раскрывались со скрипом, люди входили еще. Мы кричали им:
– Ждите на улице, черти!
Видя все это, Очкарик за конторкой и не думал работать быстрее. Как будто он не задыхался от пота, от тяжелого, горячего пара наших стреноженных тел. Медленно водил пальцем по бумажкам, потом облизывал самый кончик пальца, переворачивал лист и снова начинал водить.
– Я б сейчас размазал его по стеклу вместе с очками, – нетерпеливо шепнул мне парнишка с прыгучими повадками цепного пса. Кажется, его звали неожиданно миролюбивым именем Славик.
У Очкарика на столе стоял маленький вентилятор с такой грязной лопастью, словно им взбалтывали лужи, и гонял горячий воздух туда-сюда. Плексиглас, отделявший Очкарика, с его стороны был оклеен цветными записками. С нашей – посеревшими от времени инструкциями. Нам следовало «соблюдать тишину и очередь», «помнить об обязанности доставлять груз в целости и сохранности, в точно обозначенный срок» и много чего еще. Очкарик был мастер придумывать обязанности, а деньги за работу выдавал крайне неохотно – тот еще Гобсек. Несмотря на это, летом к нему стекались толпы старшеклассников. Кто-то копил на мотоцикл, кто-то начинал откладывать на учебу, кто-то без жалости спускал заработанное на подружек или в автоматах, или попросту относил родителям, едва сводящим концы с концами.
Девчонка стояла передо мной. Я видел только ее затылок, уши и усыпанную веснушками шею – так плотно сцепила нас очередь. Примечательными, конечно, были уши, нежные и прозрачные. Я вспоминал, как в детстве собирал розы на варенье. Ранним майским утром бабушка будила сначала Лизу, потом меня, беззлобно ругая «мешкотными». Долгое время я думал, что это из-за мешков – она давала нам жесткие, плотные наперники. Собирать бутоны нужно было очень рано, чуть просохнет роса. Мы обрывали цветы, стараясь не уколоться, и опускали в мешки. Лиза – более высокая – дотягивалась до самых крупных, махровых. Взметывались потревоженные жучки, последняя роса кропила руки, благоухало вокруг так, будто на свете нет больше ничего, кроме розовых кустов. Потом мы несли полные мешки в дом и ссыпали бутоны на расстеленную клеенку. Бабушка с Лизой долго выбирали листья, веточки, осыпающиеся желтой пыльцой тычинки, заблудившихся в цветах хрущиков, я убегал во двор, полагая, что это нудное дело – женское, как все нудные дела. Мне было лет шесть или семь.
Уши у девчонки – точь-в-точь розовые лепестки, с бисерными капельками утренней росы. По тому, как кривились ее плечи, я понимал, что она тоже устала стоять, и переминается с ноги на ногу. От нее пахло яблоками и немного жженой соломой.
Те, кто уже получил груз, выходили с красными лицами, расталкивая толпу гневными криками. Кто-то пихнул девчонку, она шепотом сказала: «Ай».
Наконец, подошла ее очередь. Очкарик медленно водил пальцем по бумагам, нашел ее внизу списка. Поднялся с места, неторопливо двинулся к стеллажам, долго искал коробки. Будто не слыша недовольного гула, он собрал из коробок замысловатую икебану и подтолкнул это хлипкое сооружение к окну. Дураку было понятно: коробки составлены так, что упадут сразу же, попробуй их взять. Очкарик всегда так делал, из подлости, что ли.
Она взяла, икебана рассыпалась. Невнятный гул обострился раздраженными окриками. Девчонка задерживала очередь. Она бросилась собирать коробки с пола. Один пакет в хрусткой кремовой бумаге упал мне под ноги, я поднял машинально.
– Эй, сто пятая! – заскрипел Очкарик. Девчонка обернулась, он протянул ей сверток, свалившийся за конторку, и добавил поучительно. – Впредь бери корзину, если руки не из того места растут.
Она загрузилась по самый нос, стараясь не встречаться ни с кем взглядами. Уши у нее пылали, уже совсем не похожие на трепетные светло-розовые лепестки.
Я получил свой наряд. В этот раз коробок оказалось немного, одну Очкарик поставил сверху и заявил, что там – что-то живое, поэтому я «отвечаю собственной шкурой».
Было бы наслаждением вырваться из конторы на улицу, если б улица не плавилась от жары, будто старая покрышка в костре. Небо в этом районе низко перерезали провода, и ни одного облачка.
Девчонка стояла у трехколесного велосипеда с блестящими на солнце хромированными корзинками. Мелкие пакеты она уложила вперед, большие коробки пристраивала между двух довольно уродливых колес, подвязывая для надежности истрепанными коричневыми ремнями. Девчоночья логика.
– Ты новенькая? – спросил я, так просто, из интереса.
Она подняла лицо, все в веснушках. Ни разу не видел столько веснушек. Они сливались в какие-то архипелаги и образовывали материки. Удивительное лицо.
– Заметно? – спросила девчонка, чуть с вызовом.
Я представил, как она начищала свой велосипед, готовясь выйти в первый день на работу. Стало ее жалко.
– Ты бы не торопилась, – сказал я, стараясь не уподобляться поучительному тону Очкарика. По-дружески говорил: хочешь – делай, не хочешь – как хочешь. – Лучше сложить коробки по маршруту.
Она посмотрела на меня с досадой, дунула на мокрую прядь волос. Вообще-то, это все должен был объяснить ей Очкарик, но в конторе не было ни одного человека, кому бы он что-то когда-то объяснял. На любой вопрос он тыкал суставчатым пальцем в инструкции на стекле.
– Смотри, – сказал я. – Берешь свою карту… ну, список адресов. Мы это картой называем.
– Знаю, – откликнулась она, нетерпеливо подергивая ремень на корзине.
– Строишь в голове маршрут, чтобы не как испуганная летучая мышь по городу носиться. Вот, у тебя две улицы друг за другом идут, потом – назад, огромный крюк. Пока ты кружить будешь, полдня пройдет. Лучше сначала заехать на «Орбиту», потом свернуть сразу за светофором, срезать можно по дворам, запомнила? – я чертил ногтем невидимый маршрут. – На аллею не сворачивай, там все перерыто. Объедешь по Заречной. Сиреневый бульвар – это новостройки у оврага. Никакой там сирени нет, кстати. Зато есть черемуха, очень сладкая.
Она чуть улыбнулась, на щеке появился еще один архипелаг из веснушек.
– С дальними адресами укладываешь вниз и назад, с ближними – наверх. Если у тебя что-то хрупкое – посуда там…
– Нет, у меня нет.
– Я так, на будущее. Если хрупкое – на самый верх, а лучше, как туземцы – на голову.
– Ка-ак?
– Шучу. Ты когда-нибудь видела курьера с коробкой на черепушке?
Она неуверенно пожала плечами.
– А причем тут туземцы? – спросила, немного подумав. – У меня дед так рыбой торговал. На голове лоток носил и кричал: «Мелкая рыбка лучше большого таракана!» Очень удобно, потому что на голове тяжести кажутся легче.
Не знаю, какой черт меня дернул помогать ей. Ладно бы, она мне как девчонка понравилась. Но нет. Худая, голенастая, рот слишком большой, челка в пол-лица, как у лошади. «Французская красота» – называл это один мой одноклассник. Как по мне, красоты никакой. Или не дорос я до такой. Сам не могу объяснить, зачем стал перекладывать ее коробки. Еще и предложил до первой развилки ехать вместе. Может, это превосходство бывалого. Я-то уже целый месяц работал курьером, знал все подводные течения и острые камни. Распирало прямо – так хотелось кому-то покровительствовать, какой-нибудь недотепе.
Она поехала вперед. Будь у нее нормальный велосипед, а не это разлапистое чудовище, мы могли бы держаться рядом, так мало людей рискнули выйти на улицы в знойный день. Машин и того меньше, но вонь от них стояла не опадая, сплошным дымным облаком.
– Что везешь? – спросил я ее спину в натянутой белой майке, мокрой посредине и на тонких полумесяцах лопаток.
– Ты же видел. Книги, игрушки, – откликнулась она. – То, что невозможно разбить. Наверное, как все новички. А ты?
– Реквизит в театр: парики, тряпки разные… Газеты обществу слепых.
– Газеты для слепых? – она даже обернулась.
– Им читают вслух, – объяснил я. – Серьезно, каждый день. Я однажды наблюдал. Они садятся в кружок и слушают очень внимательно. Будто им и впрямь интересно.
– Может быть, интересно, – сказала она. – Может быть, газеты скучны только для нас, потому что мы и так все видим, – она подумала и добавила, – видим, как все на самом деле. А будь мы слепыми, тоже ждали бы, чтобы нам кто-нибудь почитал газеты.
Она замолкла, словно устыдившись такой длинной тирады.
– Еще везу какое-то животное, – сказал я.
– Без шуток? – восхитилась она. – А разве можно животное – в посылке?
– Конечно, если в коробке есть отверстия для воздуха, – ответил я. – Раньше даже детей по почте отправляли, в Америке. Представляешь?
– Обалдеть, – сказала она.
– Только не говори, что твой дед делал так же.
Она снова замолчала, и мне говорить расхотелось. Сказать честно, очень уж смутила ее привычка задумываться над моими словами. Я-то нес сплошную околесицу, чтобы ее развлечь. А она перекатывала в голове – про туземцев, например, или про слепых – и мои слова становились еще ерундовее, будто я распоследний идиот. С такой держи ухо востро. Духота стояла страшная. На витринах застыли белесые разводы последних июньских дождей. А ведь почти конец июля! За месяц ни капли с неба не упало, и все сходили с ума от этой коварной совершенной синевы.
Мы молча доехали до моста. К ядовито-зеленым перекладинам пристыли замочки. Замки тоже выкрасили зеленым, придав характер изначального и постоянного украшения. Тут девчонка остановилась.
– Давай ты первый, – над верхней губой у нее блестела испарина, и она облизывалась, как кошка.
Я пожал плечами, обогнул ее трехколесного монстра.
– Не люблю мосты, – сказала вдруг она, и я тоже остановился.
– Почему?
– Они дрожат. Ты разве не чувствуешь?
Кажется, девчонка и вправду не хотела на этот дурацкий мост. Как-то даже побледнела, даже веснушки выцвели. Ну и трусиха.
– Парочку велосипедов выдержит, – успокоил я ее.
– Ты думаешь, я боюсь, что мост рухнет? – она даже фыркнула и сделала вид, что поправляет ремни на корзине.
– А чего тогда?
– Ничего я не боюсь. Просто не люблю. Едешь по нему, а он дрожит.
– Знаешь, о чем я на мосту думаю? – неожиданно сказал я, честное слово, неожиданно. Говорил и тут же думал – ну и зачем ты ей это говоришь? – Взять бы да выбросить все эти коробки в реку. Нет, серьезно! Зачем людям столько вещей? Каждый день что-то покупают, покупают. Нервничают, когда у них нет чего-то, что есть у других, и снова покупают. Просто-таки утопают в хламе. Мы живем в мусорной куче. Весь наш город – огромная мусорная куча!
– И твой дом? – спросила она с интересом.
– Конечно, – ответил я. – В моем доме шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на какое-нибудь барахло. Все эти ковры, диваны, сервизы – это же еще при моей жизни будет на свалке.
– Но это нужные вещи, – возразила она. – Когда они сломаются, станут не нужны. Но сейчас-то они – не мусор.
– Ерунда, – отмахнулся я. – Нас приучили, что считать нужным. На самом деле наши предки прекрасно без всего этого обходились. Тысячелетиями, между прочим. Это как пшеница. Раньше люди собирали травы, убивали животных и были счастливы. А потом как с ума сошли. Аграрная революция – прощай, свобода! Осели в полях и стали защищаться уже не от животных, а друг от друга, – девчонка щурилась, и было непонятно: слушает или нет, но я уже завелся. – Людям необходимо чем-то себя занять, поэтому одни производят один вид мусора, другие – другой, дороже, дешевле, оптом и в розницу, для души и для тела… Равенство людей состоит в том, что их мусор на самом деле одинаково никому не нужен.
– Ну, а книжки? Или картины? Тоже выбросил бы? – предсказуемо наморщила лоб она. У девчонок всегда все упиралось в искусство.
– Тут такая штука, – попытался я объяснить. – Тут ты сама определяешь. Ты, а не писатель или там художник, или музыкант. Они-то любят называть друг друга гениями. Но это чушь. Если ты сама чувствуешь, как что-то делает тебя лучше, что не зря вот этот писатель, например, или музыкант разорвал тишину, это не мусор. Только так редко бывает. Чаще нас дурят. Началось все с пшеницы, а потом – раз! – тебе в голову вдолбили чужие мысли и убедили, что это твои мысли, а то, что эти мысли совпадают с мнением большинства, якобы доказывает их правильность.
– Ф-фух, – выдохнула она. – Если бы я хорошо училась в школе и запоминала всякие умные слова, я бы знала, как тебя назвать.
– Ты разве плохо учишься? – удивился я.
В нашем классе все девчонки учились хорошо. Даже самая отстающая никогда не скатывалась ниже уровня середнячка у парней. Удивительно, почему девчонки еще не захватили всю мировую науку. Может, это было бы неплохо. Я, по крайней мере, не против. Девчонки всегда крепче стояли на земле и уж точно не стали бы спускать миллиарды на всякую чушь, в то время как болеют дети или голодают старики.
– У меня память неважная, вдобавок дислексия, – ответила девчонка, сидя на невыносимо блестящем трехколесном велосипеде. – Я до сих пор читаю, как в третьем классе. И пишу медленно, будто курица лапой. После школы пойду в закройщицы.
Она сказала это и посмотрела на меня с вызовом, словно ждала презрительного смеха или чего-нибудь в этом роде. Я сорвал травинку, пожевал сладковатый белый стебель.
У нас в классе был такой паренек. Когда нам приходилось читать по очереди вслух, все успевали два раза пробежать глазами страницу, пока он мучился над одним абзацем, красный и взъерошенный. Если совсем уж честно, мы считали его тупым. Скоро он ушел из нашего класса, и никто не удивился.
Девчонка тупой не выглядела.
Мост был пустой и пыльный, река под ним – почти стоячей. Даже от воды не веяло утешительной прохладой.
– А я пойду в армию, – сказал я девчонке. – Если там окажется больше порядка, то останусь.
Она тоже сорвала травинку и пожевала. Тоже посмотрела на реку, тихую, блестящую, гладкую. Наверное, она решила, что я свихнут на порядке. На какой-нибудь чистой одежде или чтобы стулья всегда стояли, будто по струночке. На самом деле, я раздолбай каких поискать. Несколько раз приходил в школу в разных носках, и если рубашка выглядит не совсем уж мятой, а так, слегка, никогда гладить не буду. И под кроватью у меня можно найти тополиный пух даже зимой. А прическа? Нет, все, что касается внешней аккуратности – не ко мне. Я жаждал другого порядка. В головах людей. Но объяснить это бывало трудно.
Она вдруг догадалась:
– Я поняла, ты хочешь в армию из-за того же, что и выбросить коробки в реку. Чтобы не множить мусор.
– Тебя недооценивают в твоей школе, – сказал я, и она засмеялась.
Смеялась она так хорошо! Зубки у нее оказались маленькие и немножко скошенные вглубь рта. Веснушки запрыгали по лицу, будто живые. И смех был приятный, чистый. Может быть, потому я и предложил ей искупаться. Мне показалось, это хорошее предложение в ответ на такой хороший смех.
Черт с ним, с Очкариком, с его лозунгами и инструкциями. За десять минут ничего не случится. Мы спустились со своими гружеными велосипедами вниз, к реке. Из-под колес выкатывались камешки. Она ставила ногу боком, боясь упасть. Велосипеды пристроили рядом на берегу. Ее велик выглядел точно наряженная на ярмарку, умасленная кобыла, мой – только что примчавшийся с поля диковатый стригунок. Я скинул рубашку, кеды, джинсы, которые обрезал по колено неделю назад и они уже обросли густой бахромой. Девчонка осталась в майке и коротких канареечных шортиках. Цепляясь носком за пятку, стянула тенниски, грязные у больших пальцев. У нее и руки, и ноги, и грудь в округлом вырезе майки были конопатые. Странно, но это не выглядело уродливым, хотя скажи мне кто-то, что у какой-нибудь девчонки грудь в веснушках – мне бы сразу расхотелось смотреть.
Вода оказалась теплой, мутной и затхлой, как в стоялом пруду за бабушкиным домом. Но я все равно окунулся пару раз с головой. Девчонка вошла по колено, побрызгала на лицо, руки. Веснушки ее стали ярче, умывшись от пыли.
В детстве я любил дразнить Лизу. Подныривал и утягивал ее на дно. Она никогда не ругалась. Хотя после того, как в три года чуть не утонула, безотчетно боялась воды.
Я скользнул к девчонке, схватил за ноги. Она взвизгнула и упала на меня. И снова засмеялась. Оказалось, что жженой соломой пахнут ее светлые волосы, а кожа – яблоком. И она очень гладкая, прямо как мраморная статуя, только теплая. Забавно, веснушчатую кожу представляешь жесткой, пупыристой, а она такая шелковистая.
Девчонки меня занимали. С одной даже закончилось поцелуями. Что удивительно – она сама на меня набросилась. Звучит по-дурацки, но было как в кино про какую-нибудь прекрасную совратительницу и бесстрастного шпиона. Р-раз – и прижат спиной к стене. А она напирает, губы у нее соленые: мы только что вместе жевали арахис. Это случилось в мае, перед первым экзаменом, и ее звали Лилия. По-моему, она куда-то уехала на лето. Вроде бы, даже говорила куда – на море, в кемпинг с родителями.
Вылезли мы с веснушчатой девчонкой из реки мокрые до нитки, но обсохли, не успев подняться на мост. Когда она взмахнула волосами, вокруг разлился болотный дух. Я представил, что она русалка с очень гладкой кожей и желтыми глазами.
– Как думаешь, когда люди разводятся, они свои замочки спиливают? – спросила девчонка.
– Ни разу не видел, – признался я. – А зачем?
– Ну, это же странно: мужчина и женщина больше не вместе, может, у них уже новая любовь, а где-то на мосту висит себе замок с их именами. Я бы спилила.
Ну и мысли у этих девчонок!
– Я в Душанбе жила. Там часто дрожала земля, – сказала она. – С тех пор и не люблю мосты. Они тоже дрожат. Это не объяснить. Такое чувство противное. Как будто ты совсем ничего не значишь.
Мы проехали мост, я оглядывался на нее.
– Ну, все. Дальше тебе – туда, а мне – сюда.
Было немного жаль. Мне захотелось, чтобы ей тоже было немного жаль расставаться. Но солнце светило, она жмурилась, и невозможно разобрать, что там у нее мелькало в глазах.
– Пока! – легко сказала она, разворачивая свой жуткий трехколесный велосипед.
На площади я понял, что так и не узнал ее имени. Сто пятая.
Честное слово, никогда не видел столько веснушек на одной девчонке! Когда я объяснял ей про карту и как нужно укладывать посылки, конечно, не открыл свой секрет. Если в городе есть место, которое ты не выносишь, начинать нужно с него. Иначе весь день пойдет насмарку. Будешь крутить педали и думать об этом месте, которое только тебя и поджидает, как заколдованный замок с чудовищем. Я не сказал ей об этом только потому, что вряд ли кто-то ненавидит какую-нибудь точку на земле так, как я ненавижу Концевую.
Говорят, раньше это была славная городская окраина. Беленые дома с палисадниками, брусчатка под ногами. Цвели вишни, и гремела бутылками молочница. А в летние дни приезжала пузатая поливальная машина, на обочины выбегали дети и кричали: «Поливальная машина! Ура!», и бежали за ней, босые, ни единой сухой нитки. Отец вспоминал.
Не знаю, что происходит с целыми улицами, почему вдруг все убегают, бросают свои дома и сады. Как будто там метеорит упал, нефть разлилась или вода отравленная потекла. Но нет ведь. Ничего такого плохого не случилось. По крайней мере, явного. Просто люди стали уезжать. Трамвай изменил маршрут. Остались заросшие травой пути, поля непобедимого кипрея, тихие взгорки и несколько черных домиков, давно потерявших человеческий облик. Всякий бы удивился, узнав, что на полузаброшенной Концевой кто-то не просто жив, а еще и ждет посылки курьером!
Из брусчатки часто торчала трава. Велосипед трясло так, что звонок протестующе подзынькивал. Я без труда нашел нужный дом – с полукруглой жестянкой номера под зеленой от мха крышей. Взял коробку с «живым грузом», невесомую и тихую. Поднялся на разбитое крыльцо, постучал. С двери бесшумно осыпались хлопья краски – всех оттенков, какими в разные годы выкрашивали дерево. Мне никто не открыл. Наглухо занавешенные окна молчали. Постучал сильнее. Второй раз возвращаться на проклятую Концевую не хотелось. За дверью завозились.
– Это курьер, – представился я. – Вам посылка.
– Ах ты! – раздался приглушенный голос. – Подождите!
Последовал легкий шлепок. Потом еще один. Дверь мне не открывали. Крыльцо было такое трухлявое, что я постепенно проваливался, а может, врастал в его волокнистые недра, словно герой какого-нибудь поэтического народного сказания.
– Ау, – сказал я. – Откройте дверь.
– А так нельзя? – спросил голос. – Ну, оставить на крыльце?
– Ваша подпись, – терпеливо ответил я. – Откройте щелочку, я вам квитанцию просуну. Вы распишетесь, и я оставлю посылку где угодно.
За дверью опять завозились, как будто ловили кого-то. Шлепок, досадливый выдох, сдавленное ругательство. Змея, что ли, сбежала?
Меня вдруг пробил озноб: а что в коробке? Неужто я с какой-нибудь крошечной гадючкой по городу мотаюсь? От Очкарика можно ожидать любой подлости. А уж сколько разномастных чудиков в этом городе – знают только курьеры. Как-то привез одному коробку. На вид – обычный парень лет двадцати пяти, из тех, кто скорее пропустит Второе пришествие, чем тренировку в спортзале. Он обрадовался, распечатал коробку прямо при мне и давай примерять женские босоножки на каблуке. С ума сойти.
Вообще-то, я только так говорю: с ума сойти. На самом деле, редко удивляюсь чему-то по-настоящему, от души. Не знаю, почему. Лиза говорила: «Ты либо деревянный болванчик без глаз и ушей, либо великий мудрец». «Болванчик – понятно, – говорил я. – А почему мудрец?» «Потому что, – говорила Лиза, – то, что кажется удивительным одним людям, на другом уровне сознания – ясно как Божий день. Ты разве этого не замечаешь, взрослея?»
Дверь приоткрылась. Рука схватила меня и втолкнула в дом. После яркого солнечного света, растапливавшего улицу со всех сторон, перед глазами заплясали цветные пятна. Не сразу я сообразил, что это не пятна, а бабочки. Они носились встревоженно по всему дому, как ожившее видение импрессиониста: причудливые и случайные брызги красок с кисти.
– Дети выпустили, – уныло сказал невысокий щуплый мужичок с сачком в руках.
– Помочь? – спросил я зачем-то.
Наверное, это жара на меня так действовала. Иначе зачем я направо и налево предлагал помощь? Мужичок обрадовался, вручил мне другой сачок с длинной сетью и большим, запачканным травой ободом.
– Только осторожнее, прошу! – сказал умоляюще. – Очень ценные экземпляры, со всей планеты.
Я заглянул в комнату. На протянутой наискось веревке висели пасмурные наволочки. Под окном притулились в обнимку два зареванных мальчика. Подмигнул им, но они отвернулись.
Бабочки летали, садились на занавески, на стол со сладко-липкой лужицей разлитого чая, на хмурых мальчиков, на книги в шкафу без стекла. Цветные их крылья сливались со всем, на что они опускались – в том-то и была трудность.
– Не ловите на лету, только сидящих, – сказал мужичок. – И – ради всего святого – не растопчите!
Я прижимал бабочек сачком к стене, потом подходил хозяин и аккуратно забирал их в пластмассовый контейнер с экраном. Брал он бабочку над самым тельцем, за сложенные вместе крылья. Пальцы у него были темно-лиловые, как штемпельные подушечки.
– Сколько их? – спросил я, давно сбившись со счета.
– Сто девяносто три, – гордо ответил он.
– И что, все разлетелись по дому?
– Почти все, – горестно сказал он и посмотрел на мальчишек.
Мальчишки одинаково поежились.
– А кто там? – спросил я, указывая на посылку. – Тоже бабочки?
– Ах ты! – вспомнил мужичок. – Эквадорские гусеницы. Дайте-ка, посмотрю на них!
Когда я вышел на крыльцо, перед глазами так и взметывались цветные пятна. На руль велосипеда присела бледно-желтая лимонница. Может быть, вылетела из зарослей крушины, уже усыпанной мелкими чернеющими ягодками, а может – за мной из этого чудаковатого дома.
Я выезжал с Концевой, но зачем-то повернул налево. Туда, где в траве темнели заброшенные рельсы трамвайного пути. Распугал цикад, когда велосипед остановился, они продолжали надрываться истошно. Загадка, как мелкие, сухие тельца могут издавать столько громких звуков. Иногда под вечер нам с Лизой приходилось чуть ли не перекрикивать их стрекот в бабушкином крымском дворе.




