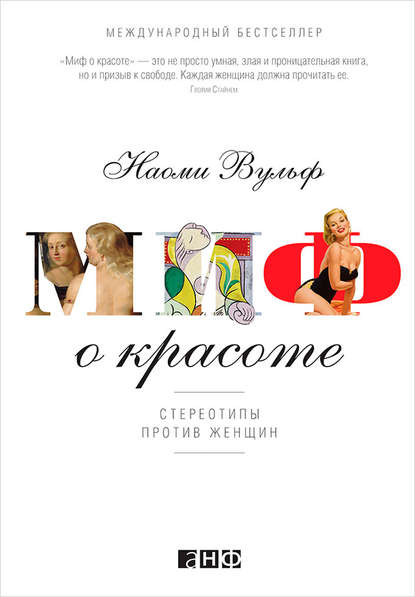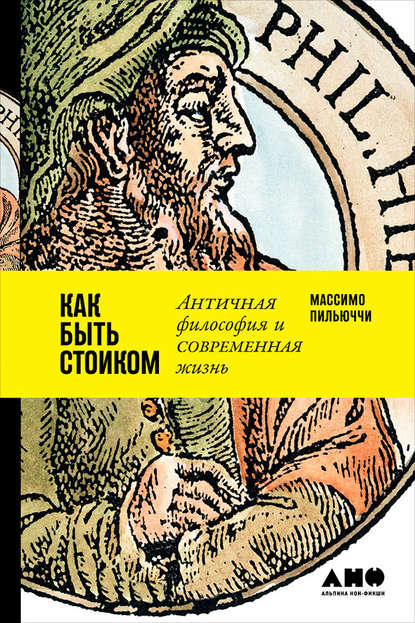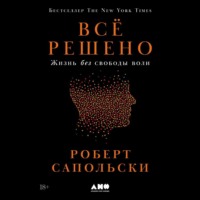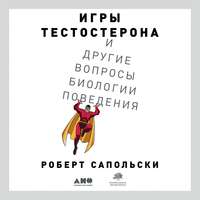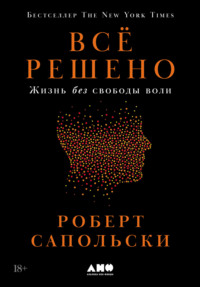Полная версия
Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки
Есть еще один аспект групповой принадлежности, который сильно меняет наше поведение, но вокруг которого наросло много заблуждений. Я говорю о т. н. эффекте постороннего (его еще называют синдромом Дженовезе){164}. В 1964 г. на жительницу Нью-Йорка Китти Дженовезе напали прямо во дворе многоквартирного дома, а потом в течение часа насиловали, мучали и в результате убили. Тридцать восемь человек слышали ее крики, и ни один из них не вызвал полицию. Несмотря на убедительный репортаж в The New York Times, несмотря на то что общественное безразличие стало эмблемой всего неприемлемого в обществе, на самом деле все произошло по-другому. Людей было меньше, чем 38, никто не видел события целиком, окна у всех были закрыты из-за холодной погоды, большинство приняло приглушенные звуки с улицы за свидетельство любовной перебранки[87].
Притянутые за уши подробности дела Китти Дженовезе породили миф о том, что если ситуация требует смелого вмешательства, то чем больше людей присутствует, тем меньше вероятность, что кто-то кинется помогать: «Здесь столько народу, наверняка вступится кто-нибудь другой». На самом деле эффект постороннего проявляется только в неопасных ситуациях, в которых вступившемуся грозит лишь ощущение неудобства, смущение. А вот в ситуациях действительно опасных чем больше людей, тем скорее каждый из присутствующих вмешается. Почему же? Возможно, тут присутствует элемент поддержания собственной репутации: много людей вокруг – много свидетелей героического поступка.
Мужчины, находясь в социально значимых и часто неудобных для них ситуациях, очень быстро реагируют на целый ряд сигналов{165}. Если конкретнее, то мы говорим о ситуациях, где присутствуют женщины или мужчины вынуждены думать о женщинах. В этих случаях мужчины больше рискуют, принимают поспешные экономические решения, расходуют деньги на роскошь (но не на обиходные траты)[88]. И даже более того – обаяние присутствующих женщин делает мужчин более агрессивными: у них, например, в играх появляется стремление наказывать противника да еще сопровождать наказание громкими звуками. Но вот что важно: в тех случаях, когда социальный статус утверждается «просоциальным» поведением, мужчины в присутствии женщин становятся настоящими «общественниками». Одно исследование как раз на эту тему удачно и показательно называлось «Мужская щедрость как сигнал к интимным отношениям». Мы вернемся к этой теме в следующей главе.
Таким образом, наше поведение на бессознательном уровне формируется социальным окружением. Как, собственно, и физической средой. Причем за несколько минут.
А теперь давайте рассмотрим криминологическую теорию «разбитых окон» Джеймса Уилсона и Джорджа Келлинга{166}. Они предположили, что мелкие проступки – оставление за собой мусора, рисование граффити, битье окон, публичное пьянство – это скользкая дорожка, ведущая к более тяжелым правонарушениям. Иными словами, хулиганство районного масштаба увеличивает уровень серьезной преступности. Почему так происходит? Да потому, что мусор и граффити в качестве нормы жизни означают либо полное безразличие окружающих, либо неспособность властей пресечь нарушения правил. И таким образом людей провоцируют на аналогичные или даже худшие поступки.
К 1994 году, когда мэром Нью-Йорка стал Руди Джулиани, город походил на картину Иеронима Босха. Опираясь на теорию «разбитых окон», Джулиани совместно с комиссаром нью-йоркской полиции Уильямом Брэттоном повел активную борьбу с преступностью. Они объявили бой мелким правонарушениям, так что теперь и рисование граффити, и проезд без билета в метро, и агрессивное попрошайничество, и настоящий бич города – назойливое мытье ветровых стекол автомобилей, остановившихся на красный свет, и требование за это платы с водителей стали наказуемыми. Вслед за этим последовал резкий спад преступности. То же произошло повсюду. В Лоуэлле, штат Массачусетс, подобную политику жестких мер провели лишь в одном из районов города в качестве эксперимента; и что же – уровень преступлений снизился только здесь. Были и сомневающиеся, которые задавали себе вопрос: а не явилось ли снижение преступности результатом некоего естественного процесса, т. к. жесткая политика, основанная на теории «разбитых окон», проводилась тогда, когда преступность в Америке уже и так пошла на убыль (другими словами, заслуживающий всяческих похвал эксперимент в Лоуэлле не считался, для исследования не хватало контрольных групп)?
С целью анализа этой теории Кейс Кайзер из Гронингенского университета (Нидерланды) задался вопросом: а не является ли нарушение одних правил сигналом-разрешением к нарушению других?{167} Если, несмотря на висящий на заборе знак запрета, прямо под ним прикованы велосипеды, люди с повышенной вероятностью полезут через пролом в заборе (опять же игнорируя запрещающие надписи); они станут сильнее мусорить около стены с граффити; а если на улице намусорено, то люди с большей легкостью украдут банкноту в пять евро. Вот такой серьезный – часто удвоенный – эффект мелких правонарушений. Мы позволяем себе пренебрегать правилами, если они уже нарушены до нас, и это процесс сознательный. При этом наблюдаемая зависимость между громкими звуками фейерверка и тенденцией мусорить – процесс уже подсознательный.
Изумительно замысловатая история
Мы видим, как за секунды-минуты до действия сенсорная и интероцептивная информация активирует мозг. А вот это сложнее: мозг способен изменять восприимчивость к различным сенсорным стимулам, преобразуя таким образом их значимость.
Очевидный пример: чувствуя опасность, собаки навостряют уши – мозг стимулирует мышцы ушей так, чтобы они лучше улавливали звуки, а те уже в свой черед влияют на мозг{168}. В сильной стрессовой ситуации все наши сенсорные системы становятся более чувствительными. Например, если вы голодны, то острее реагируете на запах еды. Как это происходит? Казалось бы, все нейронные пути ведут в мозг. Но мозг и сам посылает сигналы к воспринимающим органам. Скажем, низкий уровень сахара в крови активирует определенные нейроны гипоталамуса. Те, в свою очередь, стимулируют реагирующие на запах пищи рецепторы в носу. Эта стимуляция еще недостаточна, чтобы вызвать потенциалы действия в рецепторах, но теперь понадобится меньше запаховых молекул, чтобы получить соответствующую реакцию. Примерно так можно объяснить способность мозга выборочно менять раздражимость тех или иных сенсорных систем.
Все это имеет прямое отношение к поведению, которое и является предметом рассмотрения нашей книги. Вспомните, что эмоциональное состояние в большой степени выражают глаза. Мозг в результате то и дело возвращает наш взгляд в глаза собеседника. Это явление исследовал Дамасио на примере пациентки, страдавшей болезнью Урбаха – Вите, при которой разрушается миндалина. Неудивительно, что женщина затруднялась распознавать признаки страха на лицах. Но вдобавок к этому выяснилось, что она смотрела в глаза в два раза меньше времени, чем здоровые люди. Прямое указание сосредоточиться на глазах помогало ей лучше понимать, что данное лицо выражает испуг. Таким образом, миндалина не только выявляет испуганные лица, но и заставляет нас присматриваться к тому, насколько лицо выглядит испуганным{169}.
Психопаты обычно с трудом распознают испуг на лицах (хотя другие выражения определяют весьма точно){170}. Они меньше времени, чем средний человек, вглядываются в глаза, и если попросить их сконцентрировать внимание на этой части лица, то они легче определят страх. С учетом уже рассказанного в главе 2 о дефектах миндалины у психопатов все становится совершенно ясным.
А теперь приведу пример с акцентом на культуру (этот аспект будет подробно освещаться в главе 9). В одном эксперименте участникам показывали какой-то объект на сложном фоне. Участники из стран с коллективистским менталитетом, например китайцы, оказались склонны дольше рассматривать и лучше запоминать окружающую «контекстуальную» информацию. Участники же из стран с культурой индивидуализма, например американцы, заострили внимание на самом объекте. Если попросить участников сосредоточиться на том, что их культуре несвойственно, то у них будет наблюдаться активация лобной коры – ведь мозгу предстоит решить сложную задачу по восприятию. Получается, что культура буквально формирует «взгляд на мир», т. е. как и на что мы смотрим[89]{171}.
Выводы
Мозг функционирует не сам по себе, не в вакууме; за промежуток времени от нескольких секунд до первых минут массив попадающей в него информации склоняет нас к анти- или просоциальным действиям. Как мы уже увидели, мозг считает существенной самую разную информацию – и простую, типа цвета майки, и комплексную, щекотливую, вроде сигналов о мировоззрении. Кроме того, в мозг постоянно поступает информация от внутренних органов. И, что самое важное, эта информация главным образом воспринимается на бессознательном уровне. Основной вывод этой главы, если сформулировать его в одной фразе, будет следующим: в те минуты, когда мы принимаем решения, порой важнейшие в нашей жизни, мы не являемся теми рациональными, независимыми мыслителями, каковыми хотели бы себя мнить.
Глава 4
За несколько дней до…
Давайте сделаем еще один шаг назад, т. е. отступим от совершенного действия еще дальше – на несколько часов или даже дней. Так мы оказываемся в мире гормонов. Каково влияние гормонов на мозг и другие сенсорные системы, о которых речь шла в предыдущих главах? Насколько гормоны определяют наше поведение – как хорошее, так и плохое?
В этой главе мы рассмотрим разные гормоны, но в основном сосредоточимся на одном, а именно на том, что неразрывно связан с агрессией, – тестостероне. Заглядывая вперед, сразу отмечу, что тестостерон имеет к агрессии гораздо меньшее отношение, чем принято считать. А на другом конце ряда обычно располагают гормон окситоцин: за ним закрепился статус, ассоциирующийся с теплым, добросердечным и просоциальным поведением. Так вот, и с окситоцином не так все просто и очевидно, как полагают.
Для читателей, незнакомых с эндокринологией и гормонами, в приложении 2 специально размещена краткая начальная информация по теме.
Кривотолки о тестостероне
У самцов, в том числе мужчин, тестостерон выделяется семенниками в результате каскада влияний по оси гипоталамус – гипофиз – яички, а семенники – последнее звено этого нисходящего каскада. При этом тестостерон воздействует на клетки всего тела (включая, естественно, нейроны). И как только дело касается агрессии, то главным обвиняемым гормоном становится тестостерон.
Сопоставления и причины
Почему считается, что самцы, а в частности мужчины (причем во всех культурах), ответственны за агрессию и насилие? Так как насчет тестостерона и связанных с ним гормонов? (Все эти гормоны называют общим словом «андрогены», и я для простоты буду использовать именно этот термин в качестве синонима тестостерону, если только мне не понадобится что-то специально уточнить.) У самцов почти всех видов тестостерона больше, чем у самок (здесь некоторое количество андрогенов выделяется надпочечниками). К тому же агрессия у самцов более выражена при высоком уровне тестостерона (например, в подростковом возрасте или у видов с сезонной цикличностью в период спаривания).
Таким образом, тестостерон и агрессия связаны. Заметим далее, что в миндалине особенно много тестостероновых рецепторов; также их много и на «перевалочной станции» (в ядре ложа конечной полоски), через которую миндалина связана с другими частями мозга, и в основных областях, находящихся в зоне ее влияния (гипоталамусе, центральном сером веществе, лобной коре). Но это не более чем сопоставления. Чтобы доказать, что тестостерон является причиной агрессии, понадобятся эксперименты по типу «удаления» и «замещения». «Удаление» – вариант кастрации самца. Снижается ли при этом уровень агрессии? Да, снижается (и у людей тоже). Это говорит о том, что нечто, поступающее из семенников, вызывает агрессию. Является ли это нечто тестостероном? Проведем замещение – добавим кастрату недостающий гормон. Достигнет ли при этом агрессия докастрационного уровня? Да, достигнет (и у людей тоже).
Вывод – тестостерон является причиной агрессии. А теперь посмотрим, до какой степени это неверно.
Сложности начинаются, как только мы беремся измерить уровень агрессии сразу после кастрации: средние показатели у всех видов обваливаются, но – и это существенно – не до нуля. Может быть, мы произвели кастрацию неаккуратно и удалили семенники не полностью? Или некоторое небольшое количество андрогенов выделяется надпочечниками для поддержания агрессии? Но нет, даже когда тестостерон и все андрогены полностью устранены, агрессивное поведение в том или ином виде все же остается. А значит, какая-то часть агрессии у самцов не зависит от тестостерона[90].
Данное заключение надежно подтверждается мониторингом мужчин, которых за преступления на сексуальной почве{172} приговаривают именно к кастрации, как это принято в некоторых американских штатах. В качестве законного наказания за сексуальные преступления там используют «химическую кастрацию»: осужденным дают принудительно препараты, которые либо подавляют выделение тестостерона, либо блокируют тестостероновые рецепторы[91]. В результате у преступников с сильными, неудержимыми, патологическими сексуальными позывами кастрация снижает уровень сексуального напряжения. Но при этом уровень рецидивов у них не снижается. Как утверждается в одном исследовании, основанном на анализе широкого массива данных, «если преступление на сексуальной почве мотивировано демонстрацией ярости или власти, то таким злостным насильникам бесполезно давать [антиандрогеновые] препараты».
Эти наблюдения ведут к чрезвычайно важному заключению: если самец часто выражал агрессию до кастрации, он и после нее будет продолжать в том же духе. Другими словами, такому самцу для поддержания агрессии не слишком нужен тестостерон, она является следствием социального научения.
Перейдем к следующему пункту, ставящему под сомнение главенство тестостерона. Как индивидуальный уровень этого гормона соотносится с агрессией? Если у одного человека средний уровень тестостерона выше, чем у другого, или на этой неделе у него он выше, чем на прошлой, значит ли это, что данный индивид более агрессивный?
Казалось бы, на все эти вопросы следует ответить утвердительно, т. к. исследования показывают корреляцию между индивидуальным уровнем тестостерона и более высокими показателями агрессии. Но ведь агрессия сама стимулирует выделение этого андрогена; так что неудивительно, что у более агрессивных личностей и тестостерон повышен. Извечную проблему курицы и яйца подобным образом не решить.
Лучше поставим вопрос так: можно ли по индивидуальным различиям в уровне тестостерона предсказывать агрессию? Оказывается, что для птиц, рыб, млекопитающих и – это особенно важно – приматов ответ в целом отрицателен: нет, не можем. Для человека тоже проводили великое множество аналогичных исследований, при этом в расчет брались самые разные показатели агрессии. Ответ был во всех случаях ясный. Вот цитата из итогового обзора 2006 г. британского эндокринолога Джона Арчера: «Связь между уровнем тестостерона и агрессией у взрослых [людей] очень слабая и нестабильная, и… у добровольцев при приеме тестостерона она не увеличивается». Мозг не замечает изменений в уровне тестостерона, если колебания происходят в пределах нормы{173}.
(Другое дело, если количество гормона повышают сверх физиологической нормы и его становится больше того уровня, который свойственен обычной работе организма. Тут мы оказываемся в мире спортсменов и бодибилдеров, злоупотребляющих тестостероноподобными стероидами-анаболиками; в этом случае риск агрессии действительно повышается. Однако и тут есть два «но»: обычный человек не станет принимать такие препараты, а те люди, которые выбирают этот путь, и без того предрасположены к агрессивному поведению; у них дополнительный прием андрогенов вызывает тревогу и паранойю, и агрессия может быть побочным результатом этих синдромов.){174}
Таким образом, агрессия скорее говорит о социальном научении, нежели о тестостероне. Разный уровень этого гормона не объясняет, почему одни более агрессивны, чем другие. Как же все-таки тестостерон влияет на поведение?
Действие тестостерона в подробностях
Когда мы видим у кого-то на лице очень ярко выраженную эмоцию, мы чуточку копируем это выражение сами; тестостерон же снижает способность к подобному «эмпатическому» копированию[92]{175}. Вдобавок этот андроген ухудшает качество распознавания эмоций по глазам, из-за него незнакомые лица – в отличие от знакомых – вызывают более сильную активацию миндалины и воспринимаются более насторожено.
Тестостерон укрепляет уверенность в себе и повышает оптимизм, умеряет страх и тревогу{176}. Этим объясняется эффект победителя у лабораторных животных: победа в драке повышает аппетит к другим подобным стычкам и, соответственно, количество последующих побед. Частично такой успех свидетельствует о том, что выигрыш стимулирует выработку гормона, который, в свою очередь, увеличивает поставку глюкозы в ткани мышц животного и ускоряет метаболизм, а из-за этого феромоны победителя пахнут более «угрожающе». Кроме того, выигрыш увеличивает количество тестостероновых рецепторов в ядре ложа конечной полоски («промежуточной станции», через которую миндалина сообщается с остальным мозгом). А это, как мы знаем, повышает чувствительность к данному гормону. Любой успех – в спорте, шахматах или бизнесе – поднимет уровень тестостерона.
Ну что же, уверенность и оптимизм – это прекрасно. Именно к ним призывают нас бесконечные ряды книжек по саморазвитию. Но коварный гормон делает нас слишком самонадеянными, слишком оптимистичными, что может иметь нехорошие последствия. В одном эксперименте участникам в парах предлагали советоваться друг с другом, прежде чем принимать решение. Под влиянием тестостерона испытуемые считали правильным собственное решение и не обращали внимания на суждение напарников. Этот андроген превращает людей в хамов, эгоистов и нарциссов{177}.
Тестостерон добавляет людям импульсивности, заставляет рисковать, принимать глупейшие решения в простых ситуациях{178}. А получается так из-за того, что он снижает активность префронтальной коры и ухудшает ее функциональную связь с миндалиной, одновременно активируя взаимодействие последней с таламусом, – а это, как мы уже знаем, есть короткий путь сенсорной информации к миндалине. Таким образом, право решающего голоса получают мгновенные неточные импульсы, а рациональные «остановись-и-подумай» сигналы от лобной коры играют подчиненную роль.
Человек, испытывающий бесстрашие, уверенность в себе и безграничный оптимизм, чувствует себя прекрасно. Поэтому неудивительно, что тестостерон воспринимается благожелательно. Крысы будут стараться изо всех сил (нажимать на рычаг), чтобы получить порцию тестостерона; они демонстрируют «условно-рефлекторный выбор места», т. е. возвращаются в тот угол клетки, где им вводили андроген. Они как будто говорят: «Не знаю почему, но я себя так замечательно чувствую, стоит мне постоять в том углу»{179},{180}.
Нейробиологическая основа точно соответствует этим наблюдениям. Чтобы выработался условный рефлекс «места», необходим дофамин, а тестостерон как раз увеличивает активность области вентральной покрышки, откуда исходят мезолимбические и мезокортикальные дофаминовые аксоны. Кроме того, условный рефлекс «места» вырабатывается в том случае, если тестостерон доставляется напрямую в прилежащее ядро – т. е. куда приходит большинство проекций из вентральной покрышки. Когда крыса побеждает в драке, в вентральной покрышке и прилежащем ядре увеличивается количество тестостероновых рецепторов, вследствие чего чувствительность к гормону и к «тестостероновой радости» возрастает{181}.
Итак, в действии этого андрогена на наше поведение есть масса тонких моментов. Но при этом никаких жестких выводов мы сделать не в состоянии, т. к. любое наше наблюдение можно истолковать и так и этак. Тестостерон повышает тревогу – вы чувствуете страх и, реагируя на это, становитесь агрессивным. Тестостерон снижает тревогу – и вы делаетесь наглым, самонадеянным и, соответственно, агрессивным заранее. Тестостерон усиливает желание рискнуть: «Эгей, я положусь на удачу и одолею соседа!» Или так: «Эгей, я положусь на удачу и договорюсь с ним миром!» Из-за тестостерона вам становится лучше: «Я только что с таким шиком победил, а ну-ка еще раз подерусь». Или так: «Давайте все помиримся и пожмем друг другу руки».
Так что результат воздействия данного гормона в огромной степени зависит от ситуации – вот это и есть важнейший вывод.
Сопряженный эффект тестостерона
Зависимость от ситуации, контекста означает, что тестостерон не является причиной поступка Х, а скорее усиливает действенность чего-то еще, что и есть причина Х.
Для иллюстрации этого утверждения приведем классическое исследование 1977 г. самцов карликовых мартышек талапойн{182}. Самцам, находившимся где-то посредине иерархической лестницы группы (скажем, на ступени 3 из 5), вводили тестостерон, увеличивая уровень агрессии. И что же? Наши «натестостероненные» друзья кинулись нападать на вожаков – самцов ступеней 1 и 2? Вовсе нет. Вместо этого они сделались кошмарными хамами по отношению к несчастным сородичам ступеней 4 и 5. Гормон не привел к возникновению новых агрессивно-нагруженных социальных связей, он только укрепил уже существующие.
Исследования показали, что у человека тестостерон не повышает базовую активность миндалины; он подогревает ее реакцию и усиливает сердечную деятельность при виде угрожающих лиц (но не нейтральных или радостных). Похожим образом тестостерон не делал испытуемых эгоистичнее в ситуации экономических игр; зато они становились более мстительными в ответ на несправедливость, у них повышалась, если можно так выразиться, реваншистская реактивная агрессия{183}.
Зависимость от контекста проявляется и на уровне нейробиологии. Этот гормон укорачивает рефрактерный период (период невозбудимости) нейронов в миндалине, а также в гипоталамусе, куда из нее приходят отростки{184}. Примем во внимание, что рефрактерный период наступает в нейроне после потенциала действия. В этот момент потенциал нейрона характеризуется гиперполяризацией (т. е. нейрон несет больший отрицательный заряд, чем обычно), приводящей к тому, что он оказывается менее возбудим; в результате после потенциала действия следует период покоя. Поэтому более короткий рефрактерный период означает повышенную частоту потенциалов действия. Спросим себя: что повышает частоту потенциалов действия – тестостерон? Нет. Тестостерон заставляет нейроны возбуждаться чаще, если на них действует еще какой-то стимул. Именно так наш гормон усиливает ответ миндалины на страшные лица, но ни на какие другие. Итак, вот что мы имеем: если миндалина уже реагирует на некий социальный стимул, то тестостерон увеличивает силу реакции.
Ключевое обобщение: гипотеза «вызова»
Да, существующую склонность к агрессии тестостерон усугубит, но не создаст ее из ничего, т. е. действие его сопряженное и усиливающее. С оглядкой на это правило была предложена воодушевляющая гипотеза «вызова», в рамки которой прекрасно укладывается вся имеющаяся информация о действии андрогена{185}. Джон Уингфилд, блестящий эндокринолог-бихевиорист, и его коллеги из Калифорнийского университета в Дэвисе высказали в 1990 г. интересную мысль. Их идея заключалась в том, что повышение уровня тестостерона усиливает агрессию только в ситуации «вызова». Именно так все и происходит.
Эта гипотеза объясняет, почему базовый уровень тестостерона не влияет на последующее проявление агрессии, а также почему увеличение количества гормона в период полового созревания, половой стимуляции и в начале брачного сезона тоже не вызывает ее роста{186}.
Но когда судьба бросает вызов, все меняется{187}. У многих приматов уровень тестостерона повышается в те моменты, когда в группе устанавливается новая иерархия доминирования или перестраивается старая. У людей его количество возрастает, например, во время спортивных соревнований, причем как в командных, так и в индивидуальных видах спорта – баскетболе, теннисе, регби, дзюдо и борьбе. То же наблюдается и перед соревнованиями, и (в еще большей степени) после них, особенно среди победителей[93]. Знаменательно, что уровень тестостерона поднимается и у болельщиков, когда они становятся свидетелями победы любимой команды; это означает, что не мышечная активность, а скорее психология доминирования, социальной идентификации и самооценки увязана с увеличением количества этого андрогена.