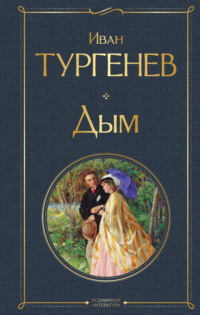полная версия
полная версияВешние воды. Накануне (сборник)
– О Елена! – промолвил Инсаров, – какие несокрушимые цепи кладет на меня каждое твое слово!
– Зачем говорить о цепях? – подхватила она. – Мы с тобой вольные люди. Да, – продолжала она, задумчиво глядя на пол, а одной рукой по-прежнему разглаживая его волосы, – многое я испытала в последнее время, о чем и понятия не имела никогда! Если бы мне предсказал кто-нибудь, что я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна из дома под разными сочиненными предлогами, и куда же уходить? к молодому человеку на квартиру, – какое я почувствовала бы негодование! И это все сбылось, и я никакого не чувствую негодования. Ей-богу! – прибавила она и обернулась к Инсарову.
Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она тихо опустила руку с его волос на его глаза.
– Дмитрий, – начала она снова, – ведь ты не знаешь, ведь я тебя видела там, на этой страшной постели, я видела тебя в когтях смерти, без памяти…
– Ты меня видела?
– Да.
Он помолчал.
– И Берсенев был здесь?
Она кивнула головой.
Инсаров наклонился к ней.
– О Елена! – прошептал он, – я не смею глядеть на тебя.
– Отчего? Андрей Петрович такой добрый! Я его не стыдилась. И чего мне стыдиться? Я готова сказать всему свету, что я твоя… А Андрею Петровичу я доверяю, как брату.
– Он меня спас! – воскликнул Инсаров. – Он благороднейший, добрейший человек!
– Да… И знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Знаешь ли ты, что он мне первый сказал, что ты меня любишь? И если б я могла все открыть… Да, он благороднейший человек.
Инсаров посмотрел пристально на Елену.
– Он влюблен в тебя, не правда ли?
Елена опустила глаза.
– Он меня любил, – проговорила она вполголоса.
Инсаров крепко стиснул ей руку.
– О вы, русские, – сказал он, – золотые у вас сердца! И он, он ухаживал за мной, он не спал ночи… И ты, ты, мой ангел… Ни упрека, ни колебания… и это все мне, мне…
– Да, да, все тебе, потому что тебя любят. Ах, Дмитрий! Как это странно! Я, кажется, тебе уже говорила об этом, – но все равно, мне приятно это повторить, а тебе будет приятно это слушать, – когда я тебя увидала в первый раз…
– Отчего у тебя на глазах слезы? – перебил ее Инсаров.
– У меня? слезы? – Она утерла глаза платком. – О глупый! Он еще не знает, что и от счастья плачут. Так я хотела сказать: когда я увидала тебя в первый раз, я в тебе ничего особенного не нашла, право. Я помню, сначала Шубин мне гораздо более понравился, хотя я никогда его не любила, а что касается до Андрея Петровича, – о! тут была минута, когда я подумала: уж не он ли? А ты – ничего; зато… потом… потом… так ты у меня сердце обеими руками и взял!
– Пощади меня… – проговорил Инсаров. Он хотел встать и тотчас же опустился на диван.
– Что с тобой? – заботливо спросила Елена.
– Ничего… я еще немного слаб… Мне это счастие еще не по силам.
– Так сиди смирно. Не извольте шевелиться, не волнуйтесь, – прибавила она, грозя ему пальцем. – И зачем вы ваш шлафрок сняли? Рано еще вам щеголять! Сидите, а я вам буду сказки рассказывать. Слушайте и молчите. После вашей болезни вам много разговаривать вредно.
Она начала говорить ему о Шубине, о Курнатовском, о том, что она делала в течение двух последних недель, о том, что, судя по газетам, война неизбежна и что, следовательно, как только он выздоровеет совсем, надо будет, не теряя ни минуты, найти средства к отъезду… Она говорила все это, сидя с ним рядом, опираясь на его плечо…
Он слушал ее, слушал, то бледнея, то краснея… он несколько раз хотел остановить ее – и вдруг выпрямился.
– Елена, – сказал он ей каким-то странным и резким голосом, – оставь меня, уйди.
– Как? – промолвила она с изумлением. – Ты дурно себя чувствуешь? – прибавила она с живостью.
– Нет… мне хорошо… но, пожалуйста, оставь меня.
– Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты делаешь? – проговорила она вдруг: он склонился с дивана почти до полу и приник губами к ее ногам. – Не делай этого, Дмитрий, Дмитрий…
Он приподнялся.
– Так оставь меня! Вот видишь ли, Елена, когда я сделался болен, я не тотчас лишился сознания; я знал, что я на краю гибели; даже в жару, в бреду, я понимал, я смутно чувствовал, что это смерть ко мне идет, я прощался с жизнью, с тобой, со всем, я расставался с надеждой… И вдруг это возрождение, этот свет после тьмы, ты… ты… возле меня, у меня… твой голос, твое дыхание… Это свыше сил моих! Я чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвечаю… Уйди!
– Дмитрий… – прошептала Елена и спрятала к нему на плечо голову. Она теперь его поняла.
– Елена, – продолжал он, – я тебя люблю, ты это знаешь, я жизнь свою готов отдать за тебя… зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собой, когда вся кровь моя зажжена… ты моя, говоришь ты… ты меня любишь…
– Дмитрий, – повторила она и вспыхнула вся и еще теснее к нему прижалась.
– Елена, сжалься надо мной – уйди, я чувствую, я могу умереть – я не выдержу этих порывов… вся душа моя стремится к тебе… подумай, смерть едва не разлучила нас… и теперь ты здесь, ты в моих объятиях… Елена…
Она затрепетала вся.
– Так возьми ж меня, – прошептала она чуть слышно…
XXIX
Николай Артемьевич ходил, нахмурив брови, взад и вперед по своему кабинету. Шубин сидел у окна и, положив ногу на ногу, спокойно курил сигару.
– Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол, – промолвил он, отряхивая пепел с сигары. – Я все ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами – шея у меня заболела. Притом же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодраматическое.
– Вам бы все только балагурить, – ответил Николай Артемьевич. – Вы не хотите войти в мое положение; вы не хотите понять, что я привык к этой женщине, что я привязан к ней наконец, что отсутствие ее меня должно мучить. Вот уж октябрь на дворе, зима на носу… Что она может делать в Ревеле?
– Должно быть, чулки вяжет… себе; себе – не вам.
– Смейтесь, смейтесь; а я вам скажу, что я подобной женщины не знаю. Эта честность, это бескорыстие…
– Подала она вексель ко взысканию? – спросил Шубин.
– Это бескорыстие, – повторил, возвысив голос, Николай Артемьевич, – это удивительно. Мне говорят, на свете есть миллион других женщин; а я скажу: покажите мне этот миллион; покажите мне этот миллион, говорю я: ces femmes – qu’on me les montre![117] И не пишет, вот что убийственно!
– Вы красноречивы, как Пифагор[118], – заметил Шубин, – но знаете ли, что бы я вам присоветовал?
– Что?
– Когда Августина Христиановна возвратится… вы понимаете меня?
– Ну да; что же?
– Когда вы ее увидите… Вы следите за развитием моей мысли?
– Ну да, да.
– Попробуйте ее побить: что из этого выйдет?
Николай Артемьевич отвернулся с негодованием.
– Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный совет подаст. Да что от него ожидать! Артист, человек без правил…
– Без правил! А вот, говорят, ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами, вчера вас на сто рублей серебром обыграл. Это уж неделикатно, согласитесь.
– Что ж? Мы играли в коммерческую. Конечно, я мог ожидать… Но его так мало умеют ценить в этом доме…
– Что он подумал: «Куда ни шла! – подхватил Шубин, – тесть ли он мне или нет – это еще скрыто в урне судьбы, а сто рублей – хорошо человеку, который взяток не берет».
– Тесть!.. Какой я к черту тесть? Vous rêvez, mon cher[119]. Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Посудите сами: человек бойкий, умный, сам собою в люди вышел, в двух губерниях лямку тер…
– В …ой губернии губернатора за нос водил, – заметил Шубин.
– Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец…
– И в карты хорошо играет, – опять заметил Шубин.
– Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна… Разве ее возможно понять? Желаю я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет? То она весела, то скучает; похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее, а там вдруг поправится, и все это без всякой видимой причины…
Вошел неблаговидный лакей с чашкой кофе, сливочником и сухарями на подносе.
– Отцу нравится жених, – продолжал Николай Артемьевич, размахивая сухарем, – а дочери что до этого за дело! Это было хорошо в прежние, патриархальные времена, а теперь мы все это переменили. Nous avons changé tout ça[120]. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно, читает что ей угодно; отправляется одна по Москве, без лакея, без служанки, как в Париже; и все это принято. На днях я спрашиваю: где Елена Николаевна? Говорят, изволили выйти. Куда? Неизвестно. Что это – порядок?
– Возьмите же вашу чашку да отпустите человека, – промолвил Шубин. – Сами же вы говорите, что не надо devant les domestiques[121], – прибавил он вполголоса.
Лакей исподлобья взглянул на Шубина, а Николай Артемьевич взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять сухарей.
– Я хотел сказать, – начал он, как только лакей вышел, – что я ничего в этом доме не значу. – Вот и все. Потому, в наше время все судят по наружности: иной человек и пуст и глуп, да важно себя держит, – его уважают; а другой, может быть, обладает талантами, которые могли бы… могли бы принести великую пользу, но по скромности…
– Вы государственный человек, Николенька? – спросил Шубин тоненьким голоском.
– Полноте паясничать! – воскликнул с сердцем Николай Артемьевич. – Вы забываетесь! Вот вам новое доказательство, что я в этом доме ничего не значу, ничего!
– Анна Васильевна вас притесняет… бедненький! – проговорил, потягиваясь, Шубин. – Эх, Николай Артемьевич, грешно нам с вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочек для Анны Васильевны приготовили. На днях ее рождение, а вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с вашей стороны.
– Да, да, – торопливо ответил Николай Артемьевич, – очень вам благодарен, что напомнили. Как же, как же; непременно. Да вот есть у меня вещица: фермуарчик, я его на днях купил у Розенштрауха; только не знаю, право, годится ли?
– Ведь вы его для той, для ревельской жительницы купили?
– То есть… я… да… я думал…
– Ну, в таком случае наверное годится.
Шубин поднялся со стула.
– Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлевич, а? – спросил его Николай Артемьевич, любезно заглядывая ему в глаза.
– Да ведь вы в клуб поедете.
– После клуба… после клуба.
Шубин опять потянулся.
– Нет, Николай Артемьевич, мне нужно завтра работать. До другого раза. – И он вышел.
Николай Артемьевич насупился, прошелся раза два по комнате, достал из бюро бархатный ящичек с «фермуарчиком» и долго его рассматривал и обтирал фуляром. Потом он сел перед зеркалом и принялся старательно расчесывать свои густые черные волосы, с важностью на лице наклоняя голову то направо, то налево, упирая в щеку языком и не спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиною: он оглянулся и увидал лакея, который приносил ему кофе.
– Ты зачем? – спросил он его.
– Николай Артемьевич! – проговорил не без некоторой торжественности лакей, – вы наш барин!
– Знаю: что же дальше?
– Николай Артемьевич, вы не извольте на меня прогневаться; только я, будучи у вашей милости на службе с малых лет, из рабского, значит, усердия должен вашей милости донести…
– Да что такое?
Лакей помялся на месте.
– Вы вот изволите говорить, – начал он, – что не изволите знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволят. Я про то известен стал.
– Что ты врешь, дурак?!
– Вся ваша воля, а только я их четвертого дня видел, как они в один дом изволили войти.
– Где? что? какой дом?
– В …м переулке возле Поварской. Недалече отсюда. Я и у дворника спросил, что, мол, у вас тут, какие жильцы?
Николай Артемьевич затопал ногами.
– Молчать, бездельник! Как ты смеешь?.. Елена Николаевна, по доброте своей, бедных посещает, а ты… Вон, дурак!
Испуганный лакей бросился было к двери.
– Стой! – воскликнул Николай Артемьевич. – Что тебе дворник сказал?
– Да ни… ничего не сказал. Говорит, сту… студент.
– Молчать, бездельник! Слушай, мерзавец, если ты хоть во сне кому-нибудь об этом проговоришься…
– Помилуйте-с…
– Молчать! если ты хоть пикнешь… если кто-нибудь… если я узнаю… Ты у меня и под землей-то места не найдешь! Слышишь? Убирайся!
Лакей исчез.
«Господи, боже мой! Что это значит? – подумал Николай Артемьевич, оставшись один, – что мне сказал этот болван? А? Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там живет. Самому сходить. Вот до чего дошло наконец!.. Un laquais! Quelle ftumiliation!»[122]
И, повторив громко: «Un laquais!» – Николай Артемьевич запер фермуар в бюро и отправился к Анне Васильевне. Он нашел ее в постели, с повязанною щекой. Но вид ее страданий только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.
XXX
Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась: Турция объявила России войну; срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул; уже недалек был день Синопского погрома[123]. Последние письма, полученные Инсаровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его все еще не поправилось: он кашлял, чувствовал слабость, легкие приступы лихорадки, но он почти не сидел дома. Душа его загорелась; он уже не думал о болезни. Он беспрестанно разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам, пропадал по целым дням; хозяину он объявил, что скоро выезжает, и заранее подарил ему свою незатейливую мебель. С своей стороны, Елена также готовилась к отъезду. В один ненастный вечер она сидела в своей комнате и, обрубая платки, с невольным унынием прислушивалась к завываниям ветра. Ее горничная вошла и сказала ей, что папенька в маменькиной спальне и зовет ее туда… «Маменька плачут, – шепнула она вслед уходившей Елене, – а папенька гневаются…»
Елена слегка пожала плечами и вошла в спальню Анны Васильевны. Добродушная супруга Николая Артемьевича полулежала в откидном кресле и нюхала платок с одеколоном; сам он стоял у камина, застегнутый на все пуговицы, в высоком, твердом галстухе и в туго накрахмаленных воротничках, смутно напоминая своей осанкой какого-то парламентского оратора. Ораторским движением руки указал он своей дочери на стул, и, когда та, не понявши его движения, вопросительно посмотрела на него, он промолвил с достоинством, но не оборачивая головы: «Прошу вас сесть». (Николай Артемьевич всегда говорит женевы, дочери – в экстраординарных случаях.)
Елена села.
Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Артемьевич заложил правую руку за борт сюртука.
– Я вас призвал, Елена Николаевна, – начал он после продолжительного молчания, – с тем, чтоб объясниться с вами, или, лучше сказать, с тем, чтобы потребовать от вас объяснений. Я вами недоволен, или нет: это слишком мало сказано; ваше поведение огорчает, оскорбляет меня – меня и вашу мать… вашу мать, которую вы здесь видите.
Николай Артемьевич пускал в ход одни басовые ноты своего голоса. Елена молча посмотрела на него, потом на Анну Васильевну – и побледнела.
– Было время, – начал снова Николай Артемьевич, – когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на своих родителей, когда родительская власть заставляла трепетать непокорных. Это время прошло, к сожалению; так по крайней мере думают многие; но поверьте, еще существуют законы, не позволяющие… не позволяющие… словом, еще существуют законы. Прошу вас обратить на это внимание: законы существуют.
– Но, папенька… – начала было Елена.
– Прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мыслию в прошедшее. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания: ни издержек, ни попечений. Какую вы пользу извлекли из всех этих попечений, этих издержек – это другой вопрос; но я имел право думать… мы с Анной Васильевной имели право думать, что вы по крайней мере свято сохраните те правила нравственности, которые… которые мы вам, как нашей единственной дочери… que nous vous avons inculqués[124], которые мы вам внушили. Мы имели право думать, что никакие новые «идеи» не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. И что же? Не говорю уже о легкомыслии, свойственном вашему полу, вашему возрасту… но кто мог ожидать, что вы до того забудетесь…
– Папенька, – проговорила Елена, – я знаю, что вы хотите сказать.
– Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! – вскрикнул фальцетом Николай Артемьевич, внезапно изменив и величавости парламентской осанки, и плавной важности речи, и басовым нотам, – ты не знаешь, дерзкая девчонка!
– Ради Бога, Nicolas, – пролепетала Анна Васильевна, – vous me faites mourir[125].
– Не говорите мне этого, que je vous fais mourir[126], Анна Васильевна! Вы себе и представить не можете, что вы сейчас услышите, – приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас!
Анна Васильевна так и обомлела.
– Нет, – продолжал Николай Артемьевич, обратившись к Елене, – ты не знаешь, что я хочу сказать!
– Я виновата перед вами, – начала она…
– А, наконец-то!
– Я виновата перед вами, – продолжала Елена, – в том, что давно не призналась…
– Да ты знаешь ли, – перебил ее Николай Артемьевич, – что я могу уничтожить тебя одним словом?
Елена подняла на него глаза.
– Да, сударыня, одним словом! Нечего глядеть-то! (Он скрестил руки на груди.) Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый дом в …м переулке, возле Поварской? Вы посещали этот дом? (Он топнул ногой.) Отвечай же, негодная, и не думай хитрить! Люди, люди, лакеи, сударыня, des vils laquais[127] видели вас, как вы входили туда, к вашему…
Елена вся вспыхнула, и глаза ее заблистали.
– Мне незачем хитрить, – промолвила она, – да, я посещала этот дом.
– Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет?
– Да, знаю: мой муж…
Николай Артемьевич вытаращил глаза.
– Твой…
– Мой муж, – повторила Елена. – Я замужем за Дмитрием Никаноровичем Инсаровым.
– Ты?.. замужем?.. – едва проговорила Анна Васильевна.
– Да, мамаша… Простите меня… Две недели тому назад мы обвенчались тайно.
Анна Васильевна упала в кресло; Николай Артемьевич отступил на два шага.
– Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Без родительского благословения! И ты думаешь, что я это так оставлю? что я не буду жаловаться? что я позволю тебе… что ты… что… В монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты! Анна Васильевна, извольте сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства.
– Николай Артемьевич, ради Бога, – простонала Анна Васильевна.
– И когда, каким образом это сделалось? Кто вас венчал? где? как? боже мой! Что скажут теперь все знакомые, весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после этакого поступка жить под родительской кровлей! Ты не побоялась… грома небесного?
– Папенька, – проговорила Елена (она вся дрожала с ног до головы, но голос ее был тверд), – вы вольны делать со мною все, что угодно, но напрасно вы обвиняете меня в бесстыдстве и в притворстве. Я не хотела… огорчать вас заранее, но я поневоле на днях сама бы все вам сказала, потому что мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем.
– Уезжаете? Куда это?
– На его родину, в Болгарию.
– К туркам! – воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувств.
Елена бросилась к матери.
– Прочь! – возопил Николай Артемьевич и схватил дочь за руку, – прочь, недостойная!
Но в это мгновение дверь спальни отворилась и показалась бледная голова с сверкающими глазами; то была голова Шубина.
– Николай Артемьевич! – крикнул он во весь голос. – Августина Христиановна приехала и зовет вас!
Николай Артемьевич с бешенством обернулся, погрозил Шубину кулаком, остановился на минуту и быстро вышел из комнаты.
Елена упала к ногам матери и обняла ее колени.
Увар Иванович лежал на своей постели. Рубашка без ворота, с крупной запонкой, охватывала его полную шею и расходилась широкими, свободными складками на его почти женской груди, оставляя на виду большой кипарисовый крест и ладанку. Легкое одеяло покрывало его пространные члены. Свечка тускло горела на ночном столике, возле кружки с квасом, а в ногах Увара Ивановича, на постели, сидел, подгорюнившись, Шубин.
– Да, – задумчиво говорил он, – она замужем и собирается уехать. Ваш племянничек шумел и орал на весь дом; заперся, для секрету, в спальню, а не только лакеи и горничные, – кучера все слышать могли! Он и теперь так и рвет и мечет, со мной чуть не подрался, с отцовским проклятием носится, как медведь с чурбаком; да не в нем сила. Анна Васильевна убита, но ее гораздо больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество.
Увар Иванович поиграл пальцами.
– Мать, – проговорил он, – ну… и того.
– Племянник ваш, – продолжал Шубин, – грозится и митрополиту, и генералу-губернатору, и министру жалобы подать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою родную дочь губить! Попетушится и опустит хвост.
– Права… не имеют, – заметил Увар Иванович и отпил из кружки.
– Так, так. А какая поднимется по Москве туча осуждений, пересудов, толков! Она их не испугалась… Впрочем, она выше их. Уезжает она – и куда? даже страшно подумать! В какую даль, в какую глушь! Что ждет ее там? Я гляжу на нее, точно она ночью, в метель, в тридцать градусов мороза, с постоялого двора съезжает. Расстается с родиной, с семьей; а я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеневых, да нашего брата; и это еще лучшие. Чего тут жалеть? Одно худо: говорят, ее муж – черт знает, язык как-то не поворачивается на это слово, – говорят, Инсаров кровью кашляет; это худо. Я его видел на днях, лицо, хоть сейчас лепи с него Брута…[128] Вы знаете, кто был Брут, Увар Иванович?
– Что знать? человек.
– Именно: «Человек он был»[129]. Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое.
– Сражаться-то… все равно, – проговорил Увар Иванович.
– Сражаться-то все равно, точно; вы сегодня совершенно справедливо изволите выражаться, да жить-то не все равно. А ведь ей с ним пожить захочется.
– Дело молодое, – отозвался Увар Иванович.
– Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина… Хорошо, хорошо. Дай бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно в сущности все равно. А там – натянуты струны, звени на весь мир или порвись!
Шубин уронил голову на грудь.
– Да, – продолжал он после долгого молчания, – Инсаров ее стоит. А впрочем, что за вздор! Никто ее не стоит. Инсаров… Инсаров… К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же, что и мы, грешные, да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну хоть я, разве я дрянь, Увар Иванович? Разве Бог меня так-таки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Кто знает, может быть, имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит медный грош. Кто знает, может быть, когда-нибудь, через столетие, эта медь пойдет на статую Павла Шубина, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством?
Увар Иванович оперся на локоть и уставился на разгорячившегося художника.
– Далека песня, – проговорил он, наконец, с обычною игрой пальцев, – о других речь, а ты… того… о себе.
– О великий философ земли русской! – воскликнул Шубин. – Каждое ваше слово – чистое золото, и не мне – вам следует воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вот как вы теперь лежите, в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше – лени или силы? – так я вас и отолью. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие! Да! да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Все – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?
– Дай срок, – ответил Увар Иванович, – будут.
– Будут? Почва! черноземная сила! ты сказала: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?
– Спать хочу, прощай.
XXXI
Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла в постель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтоб она не пускала своей дочери к себе на глаза; он как будто обрадовался случаю показать себя в полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства: он беспрерывно шумел и гремел на людей, то и дело приговаривая: «Я вам докажу, кто я таков, я вам дам знать – погодите!» Пока он сидел дома, Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась присутствием Зои, которая очень усердно ей услуживала, а сама думала про себя: «Diesen Insaroff vorziehen – und wem?»[130] Но как только Николай Артемьевич уезжал (а это случалось довольно часто: Августина Христиановна взаправду вернулась), Елена являлась к своей матери – и та долго, молча, со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого другого проникал в сердце Елены; не раскаяние чувствовала она тогда, но глубокую, бесконечную жалость, похожую на раскаяние.