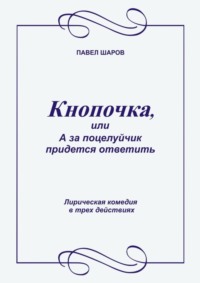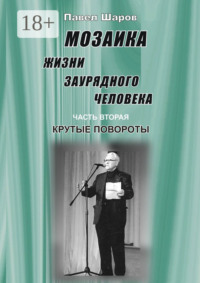Полная версия
Мозаика жизни заурядного человека. Часть первая. Разбег
Меня ввели в небольшой кабинет. За столом сидел крепкого сложения мужчина лет сорока. Рядом – молодой, судя по всему, помощник. Сбоку на жидком стуле, поскрипывая чем-то, пристроился невысокого роста усатый толстячок одной из южных национальностей. Толстячок показывал на высокого молодого парня, сидящего у стены напротив.
– Вот так и получилось, – объяснял толстячок, – не успел оглянуться, а он у меня туфли и спер.
Рядом с предполагаемым жуликом сидел такой же, как я, взлохмаченный пацан, и недоуменно таращил глаза на начальство за столом. Меня посадили рядом с «жуликом» с другой стороны от «взлохмаченного». Улучив момент, когда начальство вместе с толстячком уткнулись в протокол, предполагаемый жулик пихнул меня в бок и показал руками, чтобы я не расписывался. Наконец, формальности за столом были уточнены, и начальник уставился на меня.
– Кто такой?
– Абитуриент, товарищ майор. Тороплюсь в ГГУ на консультацию. 2
– Почему ты думаешь, что я майор?
– Так показалось.
Конечно, мне ничего не показалось. Просто я понимал, что люди полковничьего ранга с задрипанными туфлями и с не менее задрипанными базарными торговцами заниматься не будут. Если же я, напротив, повысил его на один или два ранга, то за это он меня не накажет.
– Ишь ты, Шерлок Холмс. Фамилия, имя отчество, адрес.
Я назвался.
– Вот что, мальчики, – обратился начальник к нам с «взлохмаченным», – на этом протоколе надо расписаться, и вы свободны.
«Взлохмаченный» подскочил к столу, расписался и снова сел.
– А теперь ты, – обратился ко мне начальник, возведенный мною в ранг майора.
Я взял протокол и начал читать. В протоколе живописно описывалось, как такой-сякой жулик стибрил у толстячка заявителя армянские туфли. В конце мне предлагалось подтвердить этот эпизод и возложить на себя обязанность запомнить жулика и узнать его в случае необходимости.
– Товарищ майор, – уставился я на начальника, – вы же прекрасно знаете, что я ничего этого не видел.
– Видел, не видел! – раздраженно пробормотал начальник, – ты комсомолец?
– Да.
– Так чего рассуждаешь? Подписывай.
– Слушаюсь, товарищ майор.
Я взял протокол и быстро написал на нем: «Обязуюсь на всю жизнь запомнить в лицо человека, обвиняемого в воровстве туфель». И расписался.
«Майор» взял протокол и долго таращился на него. Сначала на его лице отобразилось желание понять, чего же я там написал. Потом, когда до него дошло, лицо изобразило высшую степень недовольства. И, наконец, поняв, что, если эту бумагу забраковать, то придется писать другую, он недовольно сверкнул на меня глазами, вынул платок, смачно высморкался, отдал бумагу помощнику и приказал вытряхнуть меня и «взлохмаченного» на свежий воздух. Дырка из-под Дзержинского выплюнула нас с «лохматым» на улицу, и мы тут же испарились. Не знаю, как он, а я с тех пор все время перехожу Воробьевку по другой стороне улицы Свердлова.
Глаз выбит, коси от армии
В 1951 году после окончания школы я поступил на радиофизи-ческий факультет Горьковского Госуниверситета. Собственно, первона-чальные мои помыслы были совсем другими. Меня тянуло на фило-логический факультет, но в самый решительный момент меня вызвали в военкомат Ворошиловского района по месту жительства и в доволь-но ультимативной форме предложили поступать в какое-то военное училище. Как я потом понял, в стране создавались какие-то специальные войска, там и готовились специалисты.
Я попытался объяснить в военкомате, что три года тому назад я уже поступал в спецшколу ВВС с целью подготовки к поступлению в училище или академию военно-воздушных сил, хотел стать летчиком. Но в связи с тем, что мне клюшкой повредили правый глаз, перспективы стать летчиком рассеялись. Руководство школы пыталось тогда удержать меня, но я решил покинуть школу. Так что, простите, мол, теперь армия не для меня. А ходить в армейских технарях меня никак не устраивает. 3
Но армия на то и армия, чтобы не отступать. В военкомате стали уговаривать, потом соблазнять, нам, мол, такие спортивные парни и нужны, потом пугать – «а то хуже будет».
В общем, я понял ситуацию и решил учиться там, где есть военная кафедра, и где готовят офицеров запаса. Выбор был между радиофаком политехнического института и радиофизическим факультетом ГГУ. Пришел в политех – шум, гам, хохот, движение, в общем, моя стихия. Пришел в ГГУ – тишина, очкарики передвигаются, бумагами шелестят, тоска зеленая. Зеленая-то она зеленая, но – НАУКА. Заглянуть в нее хочется. И я решил подать заявление в университет на радиофизический факультет. О филологии не сожалел, эта филология – нечто менее значительное, нежели НАУКА.
А перед самыми вступительными экзаменами меня вызвали в военкомат, отобрали паспорт и направили в соседнюю комнату на собеседование то ли со вторым, то ли с третьим секретарем райкома комсомола. Нас, таких упрямых, собралось несколько человек.
Секретарь надул щеки и многозначительно, не терпящим возражения голосом сообщил нам – тупым баранам, что решением райкома комсомола мы… тут он уткнулся в бумажку, лежащую на столе, и начал по слогам произносить наши фамилии, путая имена и отчества (мои не перепутал, так как я Павел Павлович) … Так вот, оказывается, мы решением этого самого райкома направляемся в различные военные училища для пополнения мощи вооруженных сил нашей страны.
Да, положение серьезное. С мощью вооруженных сил не поспоришь, если она – эта самая мощь – тут при чем. А может, и не при чем? И тут я задаю ему дурацкий вопрос:
– Скажите, а это решение принято райкомом какого района?
– Как какого? Ворошиловского.
– Простите, а откуда в Ворошиловском райкоме известно обо мне?
– Как? Вы где живете?
– На Макаронке.
– Ну. Это же наш район.
– Что, ну? А откуда вам известно, что я комсомолец?
Секретарь немного смутился.
– А вы что, разве не комсомолец?
– Почему же. Я комсомолец. Только на учете я в Ждановском районе, поскольку учился там в школе.
Секретарь начал жевать губу, чего-то бормотать, какая, мол, разница, от смущения из него потекло, начал сморкаться в платок. Я понял, что сейчас он начнет плеваться, а там и до драки недалеко. Я попросился выйти, получил разрешение и ушел домой за помощью.
Экзамены пришлось начинать сдавать без паспорта. А через пару дней мы явились в военкомат с моим отцом, прошедшим войну с июня 1941 по июль 1945 года. Зашли к старшему по званию – полковнику, начальнику военкомата. Поговорили. Сначала полковник поговорил с отцом, а потом и я объяснил, что в силу дефекта глаза я в армии буду второразрядным человеком. А выбирать надо путь, по которому можно пройти во всю силу.
– Ну и кем же ты хочешь быть?
– Профессором, – неожиданно выпалил я, – а что касается защиты Отечества, то там есть военная кафедра, и я по окончании буду офицером.
– Ладно, ладно, – хохотнул полковник, – забирай свой паспорт, профессор.
И вот, я студент ГГУ. Немного отдохнем и за учебу. Душа свободная, дышится легко. На Свердловке познакомились с девчонками из мединститута. Я запрыгнул на забор с частоколом металлических украшений наверху в виде стержней и начал балансировать. Одним из важнейших элементов бега на коньках (а я уже занимался в секции конькобежного спорта) является то, чтобы середина грудной клетки была на линии колена ноги, на которой катишься. И вот я, воспользовавшись своими навыками конькобежца и начал балансировать на этом заборе, передвигаясь по нему. Дошел до столба, развернулся и крикнул:
– Девчонки! Держите!
И прыгнул. Что-то сильно дернуло меня за ногу. Я почувствовал треск и полетел вниз, как это делают пловцы на старте – вниз головой. Приземлился на кувырок. Правая нога чувствует непривычную прохладу. Посмотрел. Половина штанины висит на стержне забора. Разворачиваясь на заборе перед эффектным прыжком, я эту штанину надел на зловредный стержень. Прыжок получился на редкость эффектным. Парни помирают от хохота, девчонки аплодируют. Кто-то кричит:
– Еще, еще!
Действительно. Что мне стоит? Вторая-то штанина осталась. Правда, шорты в те времена еще не были в моде.
Первые воздыхания
Мое особое, лирически обожаемое отношение к девочкам заложено было, по-видимому, в генах и проявилось еще в те далекие времена, когда папка привозил меня, пятилетнего пацана, на саночках в детский садик в городе Павлово на Оке. Ребятня копошилась зимой над построением из снега большущего корабля под знаменитым названием, которое я забыл. Возможно, «Товарищ Красин». Корабль был с трубой и красным флагом, и всю зиму он представлял собой гордость садика, поскольку не было среди его питомцев ни одного, кто бы ни участвовал в его построении, естественно, под руководством воспитателя. В помещении детишки были заняты в большинстве своем игрушками. И так же, как их взрослые прототипы, пытаются ухватить наиболее интересную игрушку себе, так и детишки иногда поднимали рев по поводу отнятой старшим товарищем этой самой игрушки.
В подобной спорной ситуации я получил однажды вожделенной игрушкой по голове, и, поскольку я получил этого тумака от более сильного пацана, то, не зная, что в этой ситуации придумать, я заревел. Ко мне подошла моя сверстница лет пяти, наделенная природной чуткостью и добрым сердцем, и погладила меня по головке. Я, как мужчина, сразу же перестал реветь и подарил своей новой подруге мячик. Дружба эта длилась долго, и когда я научился самостоятельно ходить из садика домой, то прежде, чем это сделать, я шел за саночками, на которых увозили мою драгоценную подругу, Шел, провожая эти саночки до моста, за которым начиналась какая-то совсем неизвестная страна. Туда я заходить уже не решался. Когда в 1939 году меня, семилетнего парнишку, увозили из города Павлово на Оке на Моховые горы под город Горький, я с тоской прощался с той неизвестной мне, далекой страной, где оставалась частица моего сердца. 4
Когда мне было десять лет, мы жили уже в городе Горьком в доме макаронной фабрики. Отец был на фронте. Мать по шестнадцать часов в сутки находилась на работе. Мы с братиком были предоставлены самим себе, и я снова влюбился, теперь уже в соседку Ниночку – мою сверстницу. Дело дошло до того, что я изъял из обращения у моей мамаши позолоченную заколку и с волнением в груди подарил ее Ниночке. Мама Ниночки немедленно выяснила, откуда взялась заколка, вернула ее моей мамаше, а я получил первый урок, из которого следовало, что дарить можно только то, что сам заработал. Тогда подарок будет дорогим, какую бы ценность, маленькую или большую, он не представлял, и на душе будет чисто оттого, что подарок этот чистый.
Но все-таки настоящая любовь захватила меня, когда мне было уже девятнадцать лет. Я только что поступил в Горьковский университет, а она была студенткой второго курса радиофизического техникума, расположенного в то время на Верхневолжской набережной недалеко от Художественного музея. Галя Панюгина, несмотря на свой пятнадцатилетний возраст, выглядела уже зрелой девушкой и привлекала своей красивой фигурой не только нас, молодых парней, но и мужиков постарше. Жила она в том же доме макаронной фабрики, что и я, только она жила на первом этаже, а я на пятом.
На втором этаже того же дома жил мой товарищ Феликс Чулков. Учился он в десятом классе спецшколы военно-воздушных сил, ходил в школу в военной форме и выглядел бравым летчиком. Глаза девушек загорались призывным огнем при виде Феликса в этой красивой форме, так же как когда-то юные создания рдели при виде гусаров и «в воздух чепчики бросали».
Собственно, совсем недавно, после седьмого класса я тоже сдал экзамены в эту спецшколу. Но в первые же дни учебы ушел из школы, узнав, что летчиком мне не быть, в связи с тем, что правый глаз у меня был когда-то деформирован ударом клюшки.
Еще один товарищ – Алик Чепуренко – жил тоже на втором этаже напротив Феликса Чулкова. Этот парень, как мы тогда говорили, был из культурной семьи. Папа у него был одним из начальников на макаронной фабрике и воспитывал своего отрока в строгом режиме, не допуская его участия в наших уличных баталиях. Остальные ребята: – Гена Барнуковский, Виталий Маркелов, Лешка Лямин, Герка Паскевич, Колька Караванов – так же, как и я, в это военное время воспитывались улицей и могли в любой момент выдать на гора что-нибудь неожиданное. Поскольку я был самый старший из нашей компаниито, следовательно, я первый и обратил внимание на Галю Панюгину, предложив однажды проводить ее домой с танцплощадки у клуба Тобольских казарм. Она согласилась и все время, пока я ей что-то рассказывал, она молчала. У меня уже на груди красовались два третьих разряда с изображением легкоатлета и конькобежца, и это как-то выделяло меня из компании наших парней, и, следовательно, рассказать мне ей было о чем. ,
На следующее утро мы уже шли вместе в наши учебные заведения. Я провожал ее до техникума, а сам возвращался на улицу Свердлова в свой университет. Так было каждый день. Когда я провожал ее, расстояние между нами было не менее полуметра, и, если я нечаянно касался своей рукой ее руки, мы оба вздрагивали.
На осеннем эстафетном забеге на приз газеты «Горьковская правда» университет включил меня в молодежную команду и доверил мне стартовый этап с площади Минина до драмтеатра, затем поворот налево и до ул. Пискунова. Огромная толпа зрителей сосредоточилась на площади Минина, рядом с улицей им. Свердлова, и среди них были главные для меня зрители: группа моих товарищей в основной толпе у входа в улицу и папа с мамой на старте с моими вещичками. А среди этих товарищей был и главный зритель – она, Галя Панюгина. Чтобы не затеряться в толпе участников забега числом пятьдесят-семьдесят человек, я рванул со старта, выскочил вперед и первым проскочил мимо толпы зрителей.
– Павлик, Павлик бежит, – услышал я голос Гены Барнуковского, когда пробегал мимо толпы.
О! Никакие аплодисменты не взволновали бы меня больше, чем эти слова Гены, прозвучавшие рядом с предметом моего обожания.
Идиллия продолжалась недолго. Галя все так же молча принимала мои робкие ухаживания, я так же ежедневно продолжал провожать ее по утрам в техникум. Но всякого рода мои приглашения в кино или на молодежный вечер с художественной самодеятельностью и танцами, где я читал свои стихи, она под всякими предлогами отклоняла.
Однажды, подходя к техникуму, я сказал что-то о Феликсе Чулкове. Она быстро отвернула свой взгляд, на лице у нее зардел румянец, и я почувствовал на расстоянии, как неожиданно волна напряжения прошла по ее вздрогнувшей руке. Конечно, я был не опытен, чтобы сразу же понять ее состояние, но отсутствие опыта восполнялось обостренным чувством любви к ней, которое позволяло заметить любое движение ее души и шестым чувством понять причину этого движения. Сердце вздрогнуло и сжалось в предчувствии надвигающейся потери. Но, слава Богу, к тому времени я уже был спортсмен, умеющий блокировать тяжесть физической нагрузки и двигаться дальше, преодолевая эту нагрузку. Оказалось, что этот опыт позволил удержать меня от необдуманных поступков, когда возникла вдруг тяжесть души.
При встрече с Феликсом я выбрал момент и сказал что-то о Гале. Феликс тоже вспыхнул румянцем. Я начинал понимать, что я тот самый волнорез, о который бьются две взбудораженные предстоящей встречей души. Галя не могла по личной инициативе подойти к Феликсу. А Феликс? Если бы он был равнодушен, то, конечно, ему ничего не стоило бы подойти к ней и заговорить, о чем взбредет в голову. Но он был влюблен, и, следовательно, его обуревала масса чувств: желание быть рядом с ней, робость вперемешку со страхом получить равнодушный прием, чувство долга перед товарищем, то есть передо мной, чувство уязвленной гордости, не позволяющее вклиниться со своими нежностями между двумя близкими людьми и так далее, и тому подобное.
«Неужели я лишний?» – думал я.
Но любовь – это не игра в покер, проиграв в который, встал и ушел с раздражением, пытаясь забыть неудачу, и с надеждой выиграть в другом месте или в другой раз. Любовь не верит здравым рассуждениям, она цепляется, пытаясь найти ошибку в этих рассуждениях. Человек в этом состоянии ведет себя по-разному. Он или начинает воевать за свою любовь, не гнушаясь нарушениями принципов чести и достоинства, или превращается в того Васисуалия Лоханкина, который продолжает волочиться за предметом своего воздыхания, скуля душой и взывая охрипшим голосом: «Зачем ушла ты от меня к Птибурдукову? Ты гнида жалкая и мелкая притом», или, собрав всю волю и преодолевая вопль души, решается вскрыть нарыв противоречий и увидеть воочию с кристальной ясностью, что же с ними всеми происходит.
Я сделал так:
У кого-то из наших ребят созрел день рождения. Мы договорились с Галей встретиться на углу, чтобы вместе идти на этот праздник. В преддверии празднества группа ребят уже пропустила по рюмке на лестничной клетке. Я отозвал Фельку и сказал:
– Слушай, чего ты избегаешь меня и Галюху?
– Я не избегаю, – ответил Фелька и покраснел до мочек ушей.
– Врешь, избегаешь. Из-за меня?
– Ну, допустим.
– А вот этого допускать не надо. В таких делах мы все свободны. Понял?
– Ну и что?
– А то, что мне надо сейчас бежать на стадион, а я пригласил Галю на сегодняшнее веселье. Встреча в шесть вечера на углу. Мне придется опоздать. Я тебя прошу ее встретить. Сделаешь?
– Конечно, сделаю, – еле сдерживая волненье, пробормотал Фелька. Теперь он был красный, как из парной.
И я ушел. Вернее, я прыгнул. В омут. Когда я пришел на праздник, мои обрученные уже сидели рядом с блаженными улыбками. Вино на них не действовало. Провожать Галю мы пошли вдвоем. На следующее утро в окно я увидел, как две фигурки двинулись на расстоянии полметра друг от друга. Он – в свою школу ВВС, она – в радиотехникум.
Итак, я прыгнул. Для этого потребовалась бесшабашная решимость, но я и не предполагал, какая боль после этого последует. Нет. Я все еще не мог признать себя лишним. Так же, как человек до конца не может поверить в надвигающуюся кончину своего близкого, и поэтому хватается за любую соломинку, спасая его, так и влюбленный не может смириться с потерей этого уже родного человека, которого он любит. Надежда не покидает его до тех пор, пока все аргументы не будут исчерпаны. Я начал писать стихи и дарить их Галке. Она принимала их и, по-видимому, не знала, как реагировать на них.
Стихи редко возникают в счастливые минуты. Человек довольствуется своим счастьем, а счастье имеет привычку со временем превращаться в обыденность. К нему привыкают. О стихах как-то и мысли не возникает. Другое дело – неразделенная любовь. Душа как бы противится потере.
В душе рождается музыка, стихи. Восполняя потерю, неразделенная любовь бросает человека во власть мечты, и часто надолго. Уходя со временем в прошлое, она оставляет на сердце шрам, который долго, долго продолжает еще стонать. Она иногда меняет сам характер человека, отнимая у него уверенность в себе, превращая его в вечного страдальца, в ревнивца. Вот почему говорят, что ревность – это болезнь. Да, это болезнь, болезнь души, приобретенная в момент первого удара по надеждам. И лечить эту болезнь надо, как говорят, «клин клином», если повезет встретить еще более восхитительный колодец, в который упадет жаждущая взаимной любви душа однажды споткнувшегося человека. Ну, а если не повезет, тогда – труд. Труд спортсмена, труд инженера и вообще любой труд, который полностью поглотит человека, поставившего перед собой цель и в напряженном этом труде достигающим намеченной цели.
Осень. Мы идем с Галей по улице Свердлова. Я провожаю ее в техникум. Прежде, чем повернуть на Верхнюю-Волжскую набережную, я прошу подойти Галю к памятнику Чкалову и взглянуть с площадки так называемой Чкаловской лестницы на слияние двух могучих рек, на Стрелку. Сильный ветер взрыхляет поверхность Волги бурунами. На небе черные тучи.
– Посмотри, Галя. Видишь, два мощных рукава: Ока и Волга. Они могут быть вместе, как здесь, на Стрелке, а могут протекать радом на расстоянии, чтобы потом разойтись и больше не встретиться. В моей груди, Галя, мощный поток, поток уважения, любви к тебе. Если бы тебе было сейчас восемнадцать, ты бы согласилась так же вот – две реки в одну?
Я поставил вопрос и почти знал ответ. Он будет отрицательным. Но если бы остался хоть один шанс, я все равно поставил бы этот вопрос, ибо, не поставив его, я всю оставшуюся жизнь мучил бы себя за слабоволие. По-видимому, я побледнел. Она посмотрела на тяжелую картину нависшей над нами природы, посмотрела на меня, и я увидел, как она испугалась. Она медленно стала отступать. Я стоял и смотрел на нее. Она отступила на несколько шагов и, ничего не сказав, повернулась и пошла в техникум. А я, вместо лекций, пошел на тренировку, чтобы заменить тяжесть душевную тяжестью физической, чтобы вместе с потом из меня вышла щемящая тоска потери. Через несколько месяцев я, студент первого курса, стал чемпионом Горьковского госуниверситета по конькобежному спорту.
Прошло десять лет. Я работал старшим инженером в Горьковском НИИ приборостроения. В мою группу пришел на работу техник Женя Ошарин. Он приехал из Красноярска. Как-то так получилось, что кто-то из нас – или я, или он – упомянул имя Гали Панюгиной. И Женя рассказал мне продолжение истории предмета моего восторженного обожания. 5
Она появилась в Красноярске после окончания радиотехникума. Завод в Красноярске молодой, и работники в нем в основном вчерашние студенты, начиная с рядовых инженеров, техников, начальников цехов и кончая главным инженером. Почти все холостые. Галя со своей явно притягательной фигурой, как сейчас говорят – сексуальной – тут же привлекла внимание молодых парней. Победу одержал какой-то начальник цеха, с которым ее понесло по ухабам близких взаимоотношений. Когда Феликс, окончив спецшколу ВВС, а затем и военно-воздушное училище, и уже с офицерскими погонами приехал вдруг в Красноярск, чтобы, как нам часто показывали в кино, забрать ее с собой, он ее дома не обнаружил. «Кина» не получилось. Словоохотливые соседи рассказали ему про успехи этой красивой девушки, заверив его, что сегодня ночью она домой, наверняка, не придет. Феликс ждал. До утра. А утром, ни слова не говоря, встал и уехал, чтобы больше уже не приезжать.
Ветер молодости занес ее замуж за секретаря райкома комсомола, потом тот же ветер разнес эту пару, и она оказалась в Горьком. Я встретил ее – уже другого человека. Глядя на нее, я вспоминал ту молоденькую, не обветренную временем и событиями девчонку, а эту воспринимал как совершенно другого человека, от общения с которым не дрогнула и не зазвучала ни одна струна моего музыкального инструмента, воспроизводящего высокие чувства любви. Увы, не дрогнула.
Галя вышла замуж за одного из ведущих специалистов в городе Горьком и устроилась на работу в один из престижных институтов. А моя первая любовь была стерта, затерта другими увлечениями. И только тогда, когда я рассматриваю любительские фотографии с ее изображением, погружаюсь в это волнующее прошлое, я начинаю понимать, какое же это счастье все-таки – жизнь, как много в ней было, а может, и еще будет прекрасного.
Она грустит, бурлит, клокочет,Как будто сердце выйти хочетИз исстрадавшейся груди,Она зовет: мой друг, приди!Студенческие годы
Пятерка
Мы, студенты первого курса радиофака ГГУ, толкались около аудитории, где профессор Николаев принимал экзамены по общей физике. Первый курс, первый семестр, первые экзамены. Вот-вот профессор пригласит следующую группу студентов. А он встает, выходит и… уходит. Куда? Догадайтесь с одного раза. Инициативный студент, если даже уверен в себе, все равно подстрахуется. А я инициативный. Вбегаю в аудиторию, беру первый попавшийся билет и читаю. «Ага! Движение ракеты. Понятно: горючее горит, вес уменьшается, ускорение растет и так далее». Посмотрел другие вопросы, положил билет с краю, пожелал успехов рядом сидящему Юре Зайцеву, который с распухшей головой готовился к ответу, и выбежал.
Нашел нужный материал по вопросам билета, подготовился и по приглашению профессора вошел в аудиторию. Когда подошел к столу с рассыпанными на нем билетами, улыбка с моего лица сошла, исчезла, поскольку исчез подготовленный мной билет. Как потом выяснилось, Юре Зайцеву показалось, уж слишком далеко к краю стола был отодвинут мой билет. Чтобы оградить меня от неприятности, он передвинул этот билет поближе к общей куче, чем и ввел меня в замешательство.
– Вы чем-то озадачены? – спросил меня профессор, видя мое состояние.
– Э… ищу свой билет, – честно ответил я.
Шутка профессору понравилась.
– Берите любой. Они все ваши.
И я взял первый попавшийся. Первое, что я увидел в билете – это свою фамилию Шаров. Только с маленькой буквы.
– Опять что-нибудь не так? – поинтересовался профессор.