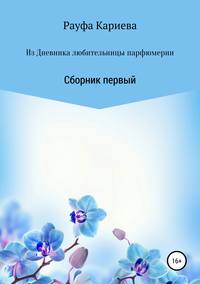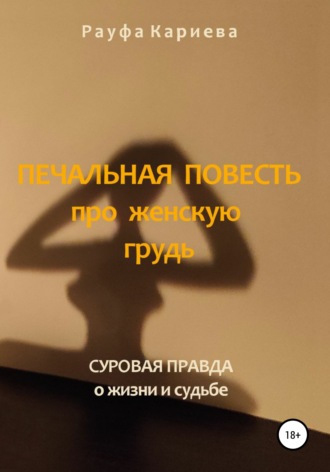 полная версия
полная версияПечальная повесть про женскую грудь
Ситора понимала, что у нее слишком мало шансов. И она не сразу поверила своему отцу, когда он сказал ей, что ее засватали, он дал согласие, и надо готовиться к свадьбе. К свадьбе именно с этим парнем, с ее любимым. Ситора рассказывала мне, что в этот момент внезапно обрушившегося на нее счастья, она чуть «не рехнулась».
Свадьба – она была пиком, апогеем счастья, триумфом. Победой. Над той огромной очередью настоящих красавиц, бывших претенденток на мужа Ситоры.
Счастливое замужество в дальнейшей жизни оказалось для Ситоры счастливым весьма относительно. Она, конечно, безумно любила своего мужа. Однако о его любви к ней она никогда не рассказывала. И даже не вдавалась в подробности, как именно он к ней относится. Но о его поведении вообще – достаточно пикантном для женатого человека – рассказывала и сама Ситора, да и об этом шептался, а иногда и просто гудел – весь город.
Муж Ситоры оказался – насколько был красивым – настолько и любвеобильным. Примерно 1 раз в 2–3 месяца он влюблялся без памяти в очередную восточную красотку (а их на Востоке, как капель в море). И не просто влюблялся, не просто переживал бурный и страстный роман с африканскими страстями – причем публично и совершенно не прячась – но и объявлял об этом своей законной жене. С течением времени он сообщал это не только жене, но и своим детям – всего Ситора родила ему 4-х детей.
Он сообщал своей супруге и матери своих детей, что он страстно полюбил другую женщину. Что это любовь навеки, и что он ничего не может с собой поделать. Затем он театрально собирал чемоданы и уходил.
С этого момента жизнь Ситоры превращалась в кипящий котел воды. Сама Ситора превращалась в комок нервов, в натянутую струну. Она не оставалась пассивной страдалицей. Она начинала войну.
Сначала она отправляла детей к своим родителям. Затем брала больничный или отпуск. И начинала «работать над ситуацией». Она ходила за парочкой (муж и его возлюбленная) по пятам, встречала и провожала их. Собирала досье на новую пассию супруга и устраивала ей телефонный «террор».
Ситора организовывала полномасштабную информационную войну. Теперь в курсе событий были все – рабочие коллективы, родня близкая и дальняя, соседи, друзья – и ее супруга, и ее соперницы.
По адресам проживания парочки, их родителей и родни, по всем номерам телефонов организовывался «прозвон, простук, прослуш» и наблюдение. Ситора вмешивалась в обычный ход событий: влюбленные не могли спокойно проводить время вместе, спать по ночам, а также вообще жить, дышать, работать, учиться, лечиться и передвигаться по городу.
При этом ухоженная, воспитанная и умная Ситора не устраивала истерик, драк и скандалов. Нет. Она спокойно, постоянно «случайно» встречала мужа, тихо взывала к его совести, апеллировала к его отцовским чувствам. Тонко подмечая какие-то изъяны, или узнавая компрометирующие факты биографии, его новой возлюбленной, «раскрывала» мужу на них глаза.
Отдельное внимание уделялось проведению психологической и моральной войны с соперницей. Ей звонили, встречали для душещипательных бесед, преследовали, звонили по ночам. Ругали, стыдили, уговаривали, предлагали вознаграждение за отказ от нового любимого.
Если новая возлюбленная мужа была замужем, и просто завела интрижку, дело принимало трагический оборот. К войне Ситора подключала мужа этой дамы и всю родню с его стороны. В этом случае страсти накалялись до предела, и конец борьбе за возвращение блудного мужа наступал быстрее.
В таких экстремальных условиях романы мужа Ситоры заканчивались, как правило, достаточно быстро. Никто не мог выдерживать такой огласки и давления. И блудный муж возвращался домой. К жене и детям. До следующей «роковой любви».
Мое схематичное описание процедуры возвращения Ситорой своего мужа в лоно семьи выглядит, возможно, несколько юмористично. Но в жизни это было не смешно. Это было тяжело, надрывно, почти трагично. Бедная женщина глубоко страдала. Ее, как в Аду, постоянно подвергали одной и той же пытке – публичной измене. Это было унизительно, стыдно, ужасно.
А Ситора ни разу, после очередного ухода мужа из дома, не пересилила себя, и не приняла решение о расставании с этим человеком навсегда, не подумала о разводе. Она раз и навсегда решила: не отдам его никому. Любой ценой.
Но это решение не освобождало ее от страданий. Она видела, что соперницы моложе, красивее. И мучилась. Каждый раз огромное количество нервов и психической энергии она тратила, чтобы разрушить новую любовь мужа, не задумываясь, что разрушает сама себя, обрекая себя на публичные унижения и позор.
И ведь при этом титаническом напряжении нужно было ослепительно улыбаться, изумительно выглядеть, смотреть на мужа влюбленными глазами и демонстрировать наглядно: я лучше! Пусть я не такая красивая, молодая. Но все равно я – лучше твоей очередной новой любовницы.
То есть титаническое напряжение было двойным. И даже тройным. Ведь когда муж возвращался, нужно было обиду и боль загнать поглубже в сердце и душу, и продолжать быть самым очаровательным существом – улыбаться, ухаживать и ублажать супруга, заставить этого пресыщенного красавца вновь потянуться к супруге. Ему нужно было внушить, что он сделал ошибку, полюбив другую. И в таком напряжении нужно было пребывать до следующего романа. А там все «по новой».
Одновременно со всеми этими трудностями и напряжениями нужно было делать вид, что не замечаешь, как над их супружеской жизнью надсмехается «весь город» – слухи, сплетни и разговоры не утихали никогда.
Со временем любовницы мужа Ситоры становились все моложе и красивее. А Ситора стала много болеть, поддерживать форму становилось все труднее. Четверо детей также требовали много внимания.
В возрасте 34–35 лет Ситора перенесла ряд тяжелых заболеваний, подолгу лежала в больницах. Она после этого уволилась из института, где мы с ней вместе работали. И не поддерживала более отношений со мной и нашей общей подругой. Не отвечала на наши звонки и не реагировала на наши попытки узнать хотя бы о ее здоровье.
Однажды я увидела ее в городе. Очень обрадовалась и кинулась ей навстречу. Но она резко отвернулась и перешла на другую сторону улицы. Выглядела Ситора очень эффектно, была красиво одета, но на лице были огромные темные очки – а было не лето. Мне это показалось странным.
Я позвонила нашей общей подруге и рассказала о встрече. Та ответила, что в городе ходят слухи: Ситора ведет себя необычно – ни с кем не общается, отключила телефон, и никто не знает, что с ней.
Через два месяца после этого разговора я увидела в Вечерке некролог. Ситора ушла от нас навсегда. В свои неполные 37 лет. Это было почти тридцать лет назад.
Потом я узнала, что ее сломил рак – РМЖ. Оказывается, все ресурсы двух богатых семей – ее родителей и ее мужа – были брошены на спасение Ситоры. Ее постоянно возили в Москву для консультаций с лучшими медиками и для лечения в лучших клиниках (в те времена за рубеж еще не ездили, или я просто не знала об этом). Говорили, что ей несколько раз полностью переливали кровь, для того, чтобы очистить организм и активизировать иммунитет.
Ничего не помогло.
Более подробной информации о течении болезни Ситоры я не знаю. Но я уверена, что причиной ее болезни был огромный стресс, который она переживала в связи с ее самоотверженной и мученической любовью к мужу.
В прошлом году из нашего родного таджикского города приезжала моя подруга-однокурсница. Она живет в том городе и поныне. Она рассказала, что муж Ситоры теперь в том городе самый некрасивый мужчина. Он спившийся, опустившийся, вечно небритый и опухший тип, и у него нет ни одного зуба.
Если бы Ситора в то время, когда прощала этому мужчине страшные обиды, хотя бы на минутку могла заглянуть в будущее, каким он станет… А ведь его портрет 2012 года является, по сути, материализацией внутренней сущности этого человека! Я думаю, что тогда Ситора не стала бы столь самоотверженно бороться за свою любовь, пытаясь удержать возле себя мужа, ценой собственного здоровья.
Ситора бросила свою драгоценную жизнь к ногам недостойного ее человека, лишила родной матери четверых детей, которые на момент ее ухода из жизни были еще мал мала меньше. Причинила горе своим родителям, которым пришлось в преклонном возрасте воспитывать внуков, у которых теперь не было матери, и фактически, почти не было отца.
* * *Мое понимание причин рака Ситоры, по ЛВ, было правильным. Ведь в книге ЛВ было написано:
1. Груди расположены в области сердечной чакры. Поэтому стресс, приведший к раку груди, связан с любовью. (Спереди).
2. Снабжение грудей энергией происходит на уровне 4-го и 5-го грудных позвонков. А это – область любви и чувства вины. (Сзади).
3. Сзади расположена энергия воли, но ее уничтожает страх.
4. Молочная железа очень восприимчива к упрекам, жалобам и обвинениям.
5. Рак возникает, если женщина ненавидит свои груди. Часто эта ненависть переходит к ней от матери.
6. Если обнаруживается рак груди, нужно поразмыслить над жизнью. Наверняка есть стресс «меня не любят».
7. Для активизации рака, кроме стресса, нужен стимулятор развития патологии – страх.
После размышлений над этими пунктами, я стала подробнее рассматривать понятия «упреки, обвинения и чувство вины».
В моей жизни, как наверняка у почти всех людей, этих трех понятий было предостаточно. Я очень страдаю всю жизнь от чувства вины по разным поводам. И даже сейчас, что бы ни случилось – я начинаю чувствовать виноватой себя.
Но тогда, в 2001 году, когда надо мной нависла угроза страшной болезни, нужно было как-то разобраться с этим, помочь себе освободиться.
Я часто, в течение жизни, с детства, слышала в свой адрес упреки. То я трудный ребенок, от которого нет покоя. То я часто болею – создаю всем проблемы. У меня ночной энурез – стыдно от людей.
Потом я простудила среднюю сестру. А потом я напугала младшую сестру. Также я нахватала кучу двоек и этим опозорила отца – уважаемого человека.
……В общем-то, как у всех людей!
Потом были упреки, что я неудачница, не оправдала доверие, не сохранила семью, оставила ребенка без отца.
Далее были упреки, что моя подготовка диссертации и поездки в Москву оттянули много ресурсов семьи. И что мой ребенок так часто болеет, что приходится содержать для него няню, чтобы я могла работать. А это большие расходы.
……Ничего особенного. Как почти у всех людей.
И все это – было давно. Вряд ли это спровоцировало бы у меня рак груди. Но вот, при анализе своей жизни, я вспомнила недавнее, очень серьезное обвинение в мой адрес. И оно вызвало во мне бурю эмоций и тяжелейшее чувство вины.
Эврика! Этот факт вполне мог стать катализатором для подспудного развития рака! Вот как это было.
Без вины виноватая, и невиноватая, но с ней
Шел 1997 или 1998 год. Владимирская область. Я работаю на заводе в поселке «Новый». А родители мои живут в другом, соседнем поселке с названием «Красивый».
Навестить своего младшего брата, то есть моего отца, из Татарстана, где она всю жизнь жила, приехала моя тетя. Она остановилась в гостинице «Мещера» города Гусь-Хрустальный.
Я попросила у Директора разрешения на заводской «Волге» с водителем Серегой «быстренько сгонять в "Гусь», чтобы повидаться с тетей. Директор разрешил.
Я поднялась в гостиничный номер.
Картинку вижу на экране своей памяти следующую. Я стою у окна гостиничного номера на втором этаже, смотрю в окно, вижу водителя Серегу, облокотившегося на автомобиль. Он ждет меня.
А я слушаю свою тетю. Она сказала мне следующее:
«Я в преклонном возрасте, но все же решила приехать и посмотреть, как живет мой брат, как он устроил свою жизнь, эмигрировав в Россию. И навестив брата, я уезжаю очень расстроенной. Мой брат живет очень плохо. Он болен. И ему не обеспечен надлежащий уход и медицинское обслуживание. Дом у твоих родителей плохой, без удобств. После хороших условий жизни в Душанбе им очень и очень тяжело. Твои родители, Руфа, опустились на дно нищеты. И в этом виновата ты. Ты – молодая и здоровая женщина. Почему ты не можешь создать своим родителям нормальных условий существования? Потому что ты не любишь их и думаешь только о себе. Вот моя дочь (это моя двоюродная сестра), – продолжала спокойным и ласковым голосом говорить мне тетя, – меня любит. И поэтому я каждый вечер размышляю, в какой спальне мне сегодня ночевать – в розовой, голубой, или золотистой? А каждую весну я «мучаюсь» вопросом: в каком из загородных имений провести лето?»
Когда я выслушала эту речь, мне захотелось возразить: «Ваша дочь не попала в эмиграцию, не потеряла имущество, не оказалась в экономический кризис в другой стране без жилья, одна с ребенком. Ваша дочь ни дня не была не замужем. А мужем у нее всю жизнь был не слесарь, и не токарь. А не больше – не меньше, бессменный мэр одного из крупнейших промышленных татарских городов». Но я тут же осеклась. Потому что уверена: у каждого человека такие обстоятельства жизни, которых он достоин. И каждый свою жизнь создает такой, на какую хватает у него ума и способностей. Достоинства сестры, которые есть у нее, но отсутствуют у меня, помогли ей стать успешной бизнес-леди. А у меня нет мужа-мэра, квартир со спальнями разных оттенков и загородных имений, потому, что я их не достойна. В отличие от моей двоюродной сестры. И бизнес-леди я не стала. Потому что у меня нет таких способностей и ума, как у нее. Людей вообще нельзя сравнивать. У каждого свой потенциал и стартовые условия.
Однако, тетя была права, подвела я итог. Я действительно виновата.
Я ехала на завод, и по щекам у меня текли горячие слезы.
Это был не просто булыжник. Я взяла на свою душу огромную корявую глыбу вины. Весом с бетонную могильную плиту.
* * *2001 год. Нужно было что-то делать с этой глыбой. Хотя бы распилить ее на части, чтобы легче было нести эту тяжесть по жизни. Я не хотела из-за этой глыбы умирать от рака под забором. И я принялась за дело.
* * *Моего отца только моя мама считала «непутевым великаном». Все остальные люди считали его красавцем, умницей, душой любой компании. За глаза его называли «Великий Татарин». Он действительно был высокий, красивый мужчина. Блестяще образованный. Начитанный, коллекционер книг и бессменный заведующий кафедрой русского языка в университете. Полиглот – сколько себя помню, он всегда говорил с каждым человеком на его, этого человека, родном языке. Дари, фарси, все тюркские языки – совершенно свободно. Голос у него был как у Паваротти. Со своей старшей сестрой – они пели дуэтом – в молодости он выигрывал все местные певческие конкурсы. Также он великолепно танцевал, и делал это до старости.
Лучшие годы жизни любого человека – примерно с 28 и до 44 лет. Я в этом возрасте скиталась по чужим углам, перебивалась случайными заработками, жила без семьи, одна воспитывала ребенка, шила себе и дочке одежду из уцененных тканей (и так же было в 2001!). Но мой отец в этом своем возрасте жил иначе.
Как почти все восточные мужчины, занимающие высокое общественное положение, он редко ужинал дома. Было принято для таких мужчин ужинать в мужских компаниях в ресторане. Папа любил свежайший шашлык и пил только элитный коньяк.
Я это пишу не потому, что завидую своему отцу. И сравниваю – как жил он с 28–44 лет, и как – насколько хуже – я, не в упрек. У каждого человека обстоятельства жизни таковы, каковы достоинства этого человека. Просто эти воспоминания помогли мне отколоть от глыбы один кусок. Да, сейчас отец на дне нищеты, но хоть в молодости пожил хорошо. Я рада, что он так хорошо жил в молодости. А также, не стоит мне сильно винить себя, думала я в психотерапевтических целях: «я и в молодости не пожила в кайф, да и сдохнуть могу в ближайшее время, и даже не в деревенском доме без удобств, а вообще, чуть ли не на помойке».
Следующий кусок от глыбы удалось отколоть при следующих воспоминаниях.
В середине 70-х годов, на фоне полного благополучия, в период развевания повсюду красных знамен, папины друзья (7 человек), занимавшие высокое общественное положение, вдруг быстро собрались и выехали со своими семьями из Таджикистана.
Папа не мог не знать причин этого, потому что эти причины в озвученном на нашей кухне виде помню даже я, своим детским умом. Друзья сказали, что ради будущего детей, обязательно надо уезжать. Первой причиной было: возможность более широкого выбора мест учебы, получения профессии в российских городах. И вторая причина касалась дочерей: обеспечить им больших выбор кандидатов в мужья (в будущем). В Таджикистане была четкая тенденция, даже в благополучные советские годы – русские ребята уезжали учиться, служить в Армию, в Россию, и, как правило, не возращались. Невест, русскоязычных я имею ввиду, в республике было во много раз больше, чем женихов.
Некоторые отцы, имевшие дочерей, пусть еще и малолетних, как папины друзья, задумались о будущих зятьях заранее, и решили уехать. И сказали об этом моему папе. Папа громко смеялся.
А один из этих 7-ми друзей, А. З., уехал не в Россию – в Европу. За 15 (!) лет он предсказал «гибель колосса на глиняных ногах» – Советского Союза. И считал, что следствием этого будут войны на окраинах погибшей империи: народы национальных республик начнут борьбу за свое самоопределение. Папа не поверил. Он обожал таджиков, и они отвечали ему взаимностью. Некоторые вообще думали, что он – таджик. Потому что по-таджикски он говорил лучше, чем сами таджики.
А когда, через 15 лет, все предсказанное начало сбываться, папа уже был тяжело болен. И не был способен принимать решения. И выезд родителей в Россию безнадежно затянулся. В Таджикистане цены на жилье из-за гражданской войны упали, а в России – выросли. Так что было счастьем, что родителям хватило денег хотя бы на покупку дома без удобств в российской деревне. Другие и этого не смогли! Приехав в Россию уже в пенсионном возрасте, родители получили минимальную пенсию. Размер пенсии был им назначен, как для не имеющих стажа вообще. И это – несмотря на более чем 40-летние стажи на высоких должностях. Причиной этого была неразбериха в документах, в финансах и т. п. в 90-х годах, экономический кризис в России.
И я сделала после этих размышлений такой вывод. Разве только моя вина в том, что мои родители в конце 90-х годов оказались на дне нищеты, в чем обвинила меня моя тетя? Обстоятельства создает человек сам. И в их состоянии была и их вина. А не только моя.
И еще. Чтобы вырастить ребенка, который в старости обеспечит тебе достойную жизнь, надо не ломать его в детстве. Не внушать ему, что он ничтожен и уродлив. Также не стоит навязывать ему выбор профессии и спутника жизни (навязанная отцом профессия дала мне возможность не сдохнуть от голода, но она ломала мою психику и, так как я ее не любила – делала меня несчастной).
Только свободный человек может стать успешным. Добиться в жизни высот, и помочь потом старикам-родителям. Я не упрекаю родителей – мне жизнь уже во взрослом состоянии много раз давала шанс изменить ход событий, поменять профессию и т. д. Но я шансы эти не использовала. Мне каждый раз не хватало ума и сил, а также мешали давно впитавшиеся в каждую мою клеточку чувства: неуверенности в себе, неполноценности и обреченности.
Я ни в коем случае не виню родителей – уважаю принцип «не суди, да не судим будешь». Я их только жалею. Также жизнь покажет, что смогла сделать в этом отношении я сама. Но я очень старалась. В меру своих сил и ума, и понимания этой зависимости.
Глыбу вины я, конечно, распилила, но не уничтожила. Нищета, в которую в эмиграции впала наша некогда благополучная материально семья, угнетает меня и поныне.
* * *Итак, по ЛВ, я проработала свои стрессы, которые доктор-психотерапевт считала причинами возникновения рака. Это страхи, чувство вины, переживания, что «тебя не любят», ощущение неполноценности. Но оставался еще один тяжелый стресс – это ОБИДЫ.
Я опять начала просеивать свою жизнь через сито, чтобы вылавливать камни и булыжники. Теперь внимание заострялось на обидах.
Обиды
Обид у каждого человека за всю жизнь накапливается немало. Даже у самых необидчивых. Диапазон – от «не так сказал или посмотрел» до «бросил(а) с детьми и ушел (ушла) к другой (к другому)».
Много обид накопилось за жизнь и у меня, но при «работе» над болезненным состоянием правой груди в 2001 году я выбрала только те, которые были свежи в памяти.
А были свежи в памяти, и еще «болели» те обиды, которые я восприняла как обиды во время работы на заводе в поселке «Новый» Владимирской области, в 1996–1999 годах.
Держала обиду:
– за обвинение в подготовке покушения на убийство Директора (подробнее в рассказе «Взрослые тоже играют в игры»);
– за невыполненное обещание улучшить бытовые условия в служебном жилье – я мучилась без воды, ванны, туалета;
– за невозмещение мне командировочных расходов, когда меня, начальника отдела кадров, отправили искать потребителей продукции завода в Татарстан;
Это – первая группа обид, – сделала я классификацию в лечебных целях.
Ко второй группе обид я отнесла приказы по предприятию об объявлении мне выговоров с лишением премии:
– за пьянку рабочих на заводе в новогоднюю ночь;
– за поломку автобуса в пути, когда он вез рабочих на смену;
– за плохую воспитательную работу среди охранников предприятия, в результате чего ночью, с территории завода была выпущена фура с продукцией, без документов, уехавшая в неизвестном направлении.
С учетом того, что я была обычной канцелярской «крысой» – начальником отдела кадров, эти приказы очень меня обижали. Особенно мне было больно лишаться денег. Тем более что я абсолютно не была виновата в том, что мне инкриминировали. И у меня не было мужа, который тоже принесет домой зарплату, и можно перекроить семейный бюджет. Я сама себе и семья, и бюджет. И если мне не выдали то, что я заработала, значит, я недоела, недодала денег ребенку, не купила себе греющую сердце любой нормальной женщины «тряпку». А это – обидно очень.
И к третьей группе обид я отнесла сугубо личные обиды:
– когда моя дочь закончила училище по специальности, актуальной для этого предприятия, и я попросила Директора взять ее на работу, и чтобы она жила со мной в моей служебной квартире, он отказал;
– когда меня переселили в служебную квартиру с удобствами – ванная, горячая вода, туалет, я попросила у Директора разрешения поселить у меня моего папу. Папа был болен, не ходил, его надо было купать, а бытовых условий в доме родителей не было. Директор отказал.
Моему читателю может показаться, что мой работодатель был плохим человеком. Нет. Он был очень хорошим человеком. Уже много лет я вспоминаю его только с хорошими чувствами, и считаю его одним из самых интересных и ярких людей, встретившихся мне на жизненном пути.
Я начала искать причины, корни всех этих обид. Чтобы стереть их из своего сердца.
И я нашла.
Человечество в целом, и подавляющее большинство людей, живущих на планете в настоящее время, еще являются людьми инстинктивными. Они живут и действуют, даже очень образованные и умные из них, на основе инстинктов. Это «срабатывает» на уровне подсознания. И поэтому свое поведение человек не оценивает.
Например, в собачьей стае, здоровые и сильные особи, инстинктивно могут загрызть пса-чужака, слабого и больного. Не потому, что собаки – чудовища. Просто так работает инстинкт выживания, стадный инстинкт и стремление к занятию места в собачьей иерархии – у людей это инстинкт стремления к власти (аналогичен стадному у животных).
Или другой пример. Добрая и веселая дворовая собака может выскочить на улицу, облаять и даже покусать прохожего, если почувствует инстинктивно, что тот ее боится, или угрожает палкой. Недаром говорят, не показывай встречной собаке, что ты ее боишься. И тем более не маши руками и не убегай. В этом случае включатся на полную катушку все инстинкты собаки, она догонит и покусает.
Также и в отношении меня. Прекрасный, умный, порядочный человек, мой работодатель инстинктивно чувствовал, что я чужая и слабая, что я всего боюсь – потерять работу и жилье, остаться без средств к существованию. Я не есть член стаи, я не являюсь представителем какого-нибудь сильного клана – сообщества людей. Я не могу за себя постоять. Меня никто не защитит. Я, скорее всего, не очень здорова в отношении нервной системы – меня легко расстроить до слез, напугать. И Директор неосознанно действовал в соответствии с инстинктами: «затоптать». Или как у котов – мышку немного придушить и помучить.
Только инстинкты – ничего личного.
Что уж обычный человек! Человечество в целом – и то мало чем отличается от своих предков, живших 30–40 тысяч лет назад в пещерах! Несмотря на небоскребы, смартфоны, компьютеры и автомобили. Этому есть три основных доказательства:
1. Человечество активно ведет войны;