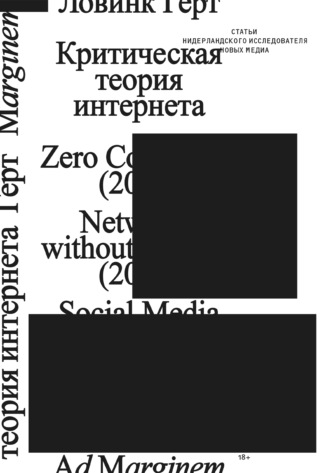
Полная версия
Критическая теория интернета
Составленный из данных фантом нашего Я рискует распасться. Энтропия – это главная угроза, которую приносит автоматизация. Система производит такое количество данных, что либо каждый будет под подозрением, либо никто. Производство информации, некогда определявшееся как создание осмысленных различий, достигло того состояния, когда оно делает кувырок и стремится к нулю – перегрузке системы. Компании типа Google в курсе опасностей, которые таят в себе такие резкие гегельянские скачки, и они пытаются спасти свои ценные активы данных, пока те не превратились в цифровой мусор [17]. Надо также отметить, что изменение политики в Google не стало результатом популярных выступлений против «социального истощения», вызванного передачей контроля умным машинам. В новой версии Android функционал отслеживания остался нетронутым. Google просто планирует собирать меньше данных – для своего собственного благополучия.
Переиначивая Хабермаса, мы можем говорить о «незаконченном проекте» дигитализации как последней стадии модернизации, которую воцарившаяся после 1968 года образованная элита попросту слила, думая, что появившиеся в результате инженерной активности устройства и инструменты никак их не коснутся. И хотя мы можем изучать кино, театр и литературу, с интернетом всё по-другому – ему никак не удавалось стать предметом отдельной академической дисциплины со своими полноценными бакалаврскими, магистерскими и аспирантскими программами. Всё это сопровождалось частыми замечаниями, что интернет «еще молод» и его использует «еще недостаточное количество людей». Где наш «конфликт факультетов»? По всему миру никто не планирует или просто не хочет сделать смелый шаг. В результате мы имеем культурное господство разработчиков из числа «белых мужчин-гиков» и потенциальных венчурных капиталистов из бизнес-школ, бесконечно копирующих бизнес-модели Силиконовой долины, – а представители социальных и гуманитарных наук, искусства и дизайна остаются где-то в стороне. Фактически программы в области медиаискусства потихоньку сворачиваются и становятся частью беззубых и замкнутых на себе академических инициатив типа digital humanities – или же подчиняются «транслирующей» логике отделений медиа и коммуникаций.
Итальянская коллега, арабистка и активистка Донателла делла Ратта, читающая лекции о цифровой культуре в Университете Джона Кэбота в Риме, добавляет, что «онлайн-субъект сегодня настолько вовлечен в технологии, что больше не замечает ни телефон, ни интернет. Молодое поколение не интересует техническое устройство само по себе, они просто стерли информацию о нем, забыли о его существовании. Моим студентам скучно, когда я говорю о технологиях как таковых. Они хотят обсуждать свои переживания, тела и эмоции. Они попросту больше не замечают технологии». Каковы будут последствия такого «технологического утомления», так быстро распространяющегося ровно в тот самый момент, когда противоречия вокруг этих технологий наконец достигли политической арены?
«Надо знать, на что подписываться, и уже затем давать обязательства – даже если этим придется нажить врагов. Или друзей. Как только мы знаем, чего хотим, мы уже не одиноки, мир заново заселяется. Везде есть союзники, единомышленники и бесконечные оттенки возможной дружбы». Можно сравнить эту «децизионистскую» мечту «The Invisible Committee» с наблюдениями Марка Фишера об отсутствии мотивации у студентов и нехватке возможности взыскания в том случае, если они отсутствуют или не успевают. По словам Фишера, «студенты обычно реагируют на такую свободу не работой над проектами, а гедонистическим – или агедонистским – утомлением: легкие наркотики, Playstation, просмотр ТВ по ночам и марихуана». Столкнувшись с информационной перегрузкой, миллениалы оказываются «слишком самоуверенными», вежливо отказываются от возможности «узнать больше» и привязываются к «более важным» вещам. Понятие «социального внутреннего» перестает быть парадоксальным.
Политическая необходимость требует отказаться от техно-солюционистских предложений и стать частью более широкого контекста. Несмотря на всю его саморефлексию, Марк Фишер предлагает актуальный для нас слоган: «Пессимизм – эмоциям, оптимизм – действиям» [18]. Или, как сказал Ноам Хомский: «Мы можем много сделать, чтобы, говоря словами Мартина Лютера Кинга, повернуть ход истории в сторону справедливости. Проще всего отчаяться и таким образом обеспечить наступление худшего. Разумный и смелый путь – это присоединиться к тем, кто пытается сделать мир лучше, используя все свои обширные возможности».

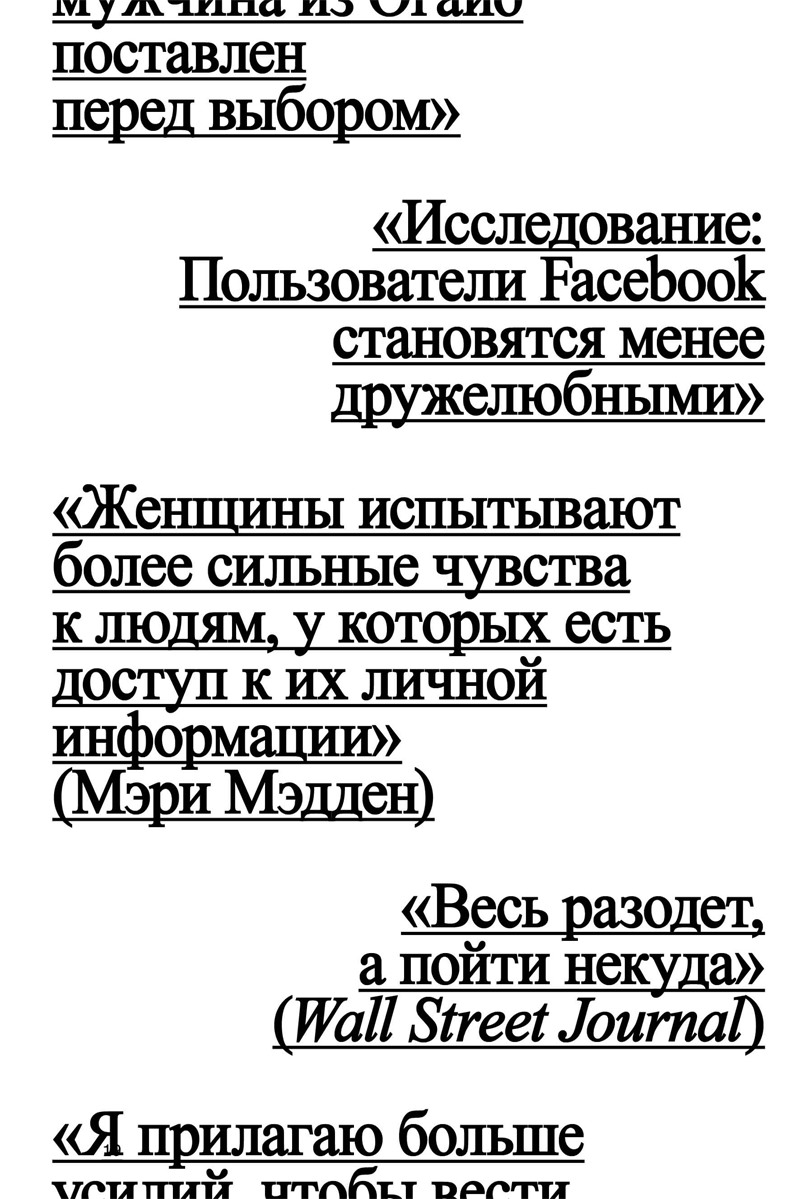
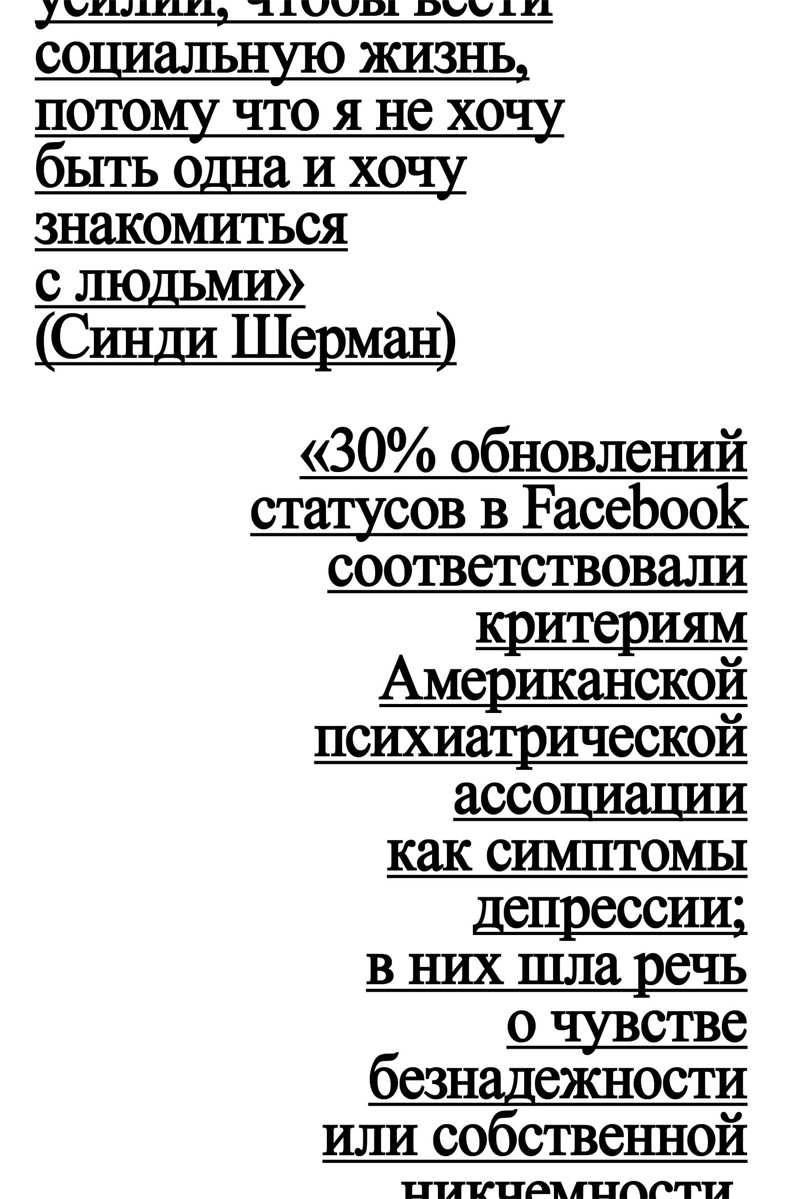

1
Что есть социальное в социальных медиа?
Использование термина «социальный» в контексте IT отсылает нас к эпохе возникновения кибернетики. Тогда в социологии была открыта сфера исследований под названием «социокибернетика» – она была создана для изучения «сетей социальных сил, оказывающих влияние на человеческое поведение», способных оптимизировать или модифицировать существующие информационные системы [19]. Когда «социальное» снова всплыло, то софт уже вовсю производился, – это было в эпоху расцвета groupware (программное обеспечение для совместного решения общих задач), которая пришлась на 1980-е19. Тогда же Фридрих Киттлер, представитель материалистской школы немецкой теории медиа, отказался от использования слова «социальное» как от неадекватной глупости (компьютеры выполняют расчеты, они не вмешиваются в человеческие отношения, так что мы должны прекратить проецировать наши мирские человеческие желания на электронные схемы и т. д.) [20]. Тем временем взращенные журналом Wired холистические хиппи игнорировали такое циничное машинное знание из Старого Света, противопоставляя ему позитивный гуманистический подход, который состоял в поклонении компьютеру как устройству для освобождения личности – эта идея впоследствии была превращена Стивом Джобсом в дизайнерский принцип и маркетинговый механизм. Перед бумом доткомов, когда во второй половине 1990-х венчурный капитал захватил сферу IT, прогрессивное программирование заключалось преимущественно в производстве инструментов и фокусировалось на сотрудничестве между двумя и более людьми – не для «шеринга», но для решения конкретных задач. «Социальное» в этом контексте означало взаимообмен между изолированными узлами. Отчасти из-за своих «альтернативных» корней калифорнийский индивидуалистический акцент на крутом дизайне интерфейсов и юзабилити всегда дополнялся инвестициями «сообщества» в сети. Но это калифорнийское «социальное» означает только шеринг между пользователями. Оно и рядом не стоит с такими понятиями, как «коллективная собственность» или «общественное благо».
Вообще, компьютеры всегда были гибридами социального и постчеловеческого. С самого начала их индустриальной жизни в качестве гигантских калькуляторов соединение различных технических единиц рассматривалось и как возможность, и как необходимость [21]. В своем никогда не опубликованном эссе «Как компьютерные сети стали социальными» теоретик медиа из Сиднея Крис Чешер набрасывает карту исторического и междисциплинарного развития – от социометрии и социального анализа сетей (уходящего корнями в 1930-е) через работу Грановеттера о «слабых связях» 1973-го к «Сетевому обществу» Кастельса (1996) и нынешним попыткам исследователей STS [22], собравшихся под эгидой акторно-сетевой теории, создать офлайн-науку, изучающую динамику человеческих сетей. Наиболее важным концептуальным прорывом здесь стал переход от групп, списков, форумов и сообществ к наделению полномочиями не слишком тесно связанных между собой индивидов в сетях. Этот сдвиг начался еще в неолиберальные 1990-е благодаря в том числе растущим вычислительным мощностям, объемам хранилищ и широкополосному доступу в интернет. Этому сопутствовало упрощение интерфейсов на постоянно уменьшающихся (мобильных) устройствах. В этот момент мы вошли в Империю Социального.
Если мы хотим ответить на вопрос, что на самом деле сегодня означает «социальное» в словосочетании «социальные медиа», то отправной точкой может стать исчезновение социальности как таковой, описанное французским социологом Жаном Бодрийяром, который концептуализировал переход от субъекта к потребителю. Согласно Бодрийяру, в какой-то момент социальное утратило свою историческую роль и схлопнулось до медиа. Если социальность – это больше не гремучая смесь из политизированных пролетариев, разочарованных безработных и грязных клошаров, ошивающихся на улицах в ожидании следующего шанса организовать переворот под какими бы то ни было знаменами, то как социальные элементы заявляют о себе в эпоху цифровых сетей?
Социальный вопрос, возможно, не решен, но на Западе уже на протяжении десятилетий он кажется нейтрализованным. В послевоенный период инструментальное знание о том, как управлять социальным, было настолько необходимо, что полномочия размышлять о социальном в интеллектуальном и техническом смысле были делегированы чему-то вроде закрытого круга экспертов. Сегодня, в разгар экономического спада, можем ли мы наблюдать возвращение или даже Ренессанс социального? Или все эти разговоры о подъеме «социальных медиа» всего лишь лингвистическое совпадение? Можем ли мы говорить – на фоне бесконечного эха экономического кризиса 2008 года – о росте классового сознания, и если да, то распространяется ли это на электронную среду? Несмотря на невзгоды безработицы, растущую разницу в доходах и достижения протестов «Оккупай» [23], быстро набирающее масштаб глобальное сетевое восстание кажется маловероятным. Протесты успешны настолько, насколько они локальны, вне зависимости от их присутствия в сети. Мемы разлетаются со скоростью света и разносят базовые концепты. Но как в глобальном контексте столь разные вещи как работа, культура, политика и сетевая коммуникация могут быть связаны таким образом, чтобы информация (например, через Twitter) и межличностная коммуникация (электронная почта, Facebook) действительно влияли на реальную организацию мировых событий?
Здесь мы должны переосмыслить представление о социальном, чтобы представить его в стратегическом контексте, более широком, чем тот, который предполагает типичный «вопрос социальных медиа». Может быть, все эти очень тщательно организованные контакты и телефонные книжки в какой-то момент переполнят виртуальную реальность и хлынут в реальный мир, на что, похоже, и намекает растущая популярность сайтов знакомств. Мы делимся информацией, опытом и эмоциями только ради их зеркального отражения? Или, как «социальные рои» (social swarms), еще и объединяем наши усилия, чтобы вторгнуться в реальность и создавать так называемые реальные события? Превратятся ли контакты в камрадов? Очевидно, что социальные медиа решили часть организационных проблем социального, с которыми поколение субурбанизированных беби-бумеров столкнулось 50 лет назад: якобы победили скуку, изоляцию, депрессию и желание. Как мы можем сойтись вместе, по-разному, прямо сейчас? Боимся ли мы или же ждем бессознательно того дня, когда наша жизненно важная инфраструктура развалится и нам действительно понадобится помощь друг друга? Или нужно воспринимать Симулякр Социального как организованную агонию – как результат столкновения с фактом утраты сообщества после фрагментации семьи, брака, дружбы и так далее? Какое иное разумное объяснение можно дать этим вечно растущим коллекциям контактов? Будет ли Другой, переименованный в «друга», чем-то большим, чем просто будущим потребителем или «спасителем» наших бизнес-процессов в эпоху прекариата? Какие новые формы социального воображаемого уже существуют? И, с другой стороны, должно ли одиночество как ответ на ежедневное давление со стороны «социального» продвигаться как Kulturideal, что предполагали Ницше и Айн Рэнд [24]? В какой момент наше управление другими превращается в нечто совершенно иное? Исчезнет ли добавление в друзья за одну ночь, как множество других практик, связанных с новыми медиа и испарившихся в цифровой нирване, – где сегодня форумы Usenet, логины для доступа к серверам telnet или наше некогда популярное HTML-кодирование веб-сайтов?
Обобщающее понятие «социальный интернет» (social Web) когда-то описывало разномастный набор сайтов от MySpace, Digg, YouTube, Flickr до Википедии. Чуть позже это понятие было расширено и включило в себя целый спектр софта и устройств (не только ПК и ноутбуков), после чего трансформировалось в «социальные медиа». В этом новом проекте было мало ностальгического – никакого возрождения когда-то опасного потенциала «социального», всплывающего образа разъяренной толпы, которая требовала бы положить конец экономическому неравенству. Вместо этого, в терминологии Бодрийяра, социальное было реанимировано только как симулякр его способности создавать значимые и продолжительные социальные отношения. Витая в глобальных виртуальных сетях, мы верим, что всё меньше и меньше придерживаемся наших ролей в традиционных сообществах, таких как семья, церковь, политическая партия, профсоюз и сообщество соседей. Исторические, наделенные определенными правами субъекты, которых описывали в таких терминах, как «горожане» или «представители класса», были превращены в субъектов с агентностью: в энергичных акторов, которых мы называем «пользователями», в потребителей, которые постоянно на что-то жалуются, в просьюмеров. Социальное уже даже не отсылает нас к обществу, и эта мысль не дает покоя теоретикам и критикам, чьи эмпирические исследования подтверждают, что люди, несмотря на их поведение на публике, остаются довольно глубоко встроены в определенные культурные, локальные и особенно иерархические структуры. Лишившееся всех метафизических ценностей, социальное становится заменителем чего-то похожего на коллектив, останками неолиберального разрушения «общества», расхлябанным набором «слабых связей». Как концепту ему недостает как религиозного подтекста терминов типа «сообщество», так и ретроактивных антропологических коннотаций «племени». Используя маркетинговую терминологию, современное «социальное» – это просто что-то техническое и условно «открытое», пространство между тобой, мной и нашими друзьями.
Соответственно, социальное больше не проявляется в первую очередь в виде класса, общественного движения или толпы и не институционализирует себя, как это происходило в послевоенную эпоху государства всеобщего благосостояния. Даже постмодернистская стадия дезинтеграции и распада кажется уже пройденной. Сегодня социальное заявляет о себе в сетевой форме. Его практики вырываются за рамки институций ХХ века, что ведет к коррозии конформности. Сеть становится настоящей формой социального. Что сегодня имеет значение, например, в политике и бизнесе – так это «социальные факты», представленные через анализ сетей и соответствующую визуализацию данных. Институциональная часть жизни кристаллизуется как совершенно другая проблема, как банально исчезающая база данных о жизни общества, которая быстро отходит на задний план дискуссий, в какой-то далекий мир забот. В данной ситуации заманчиво продолжать мыслить в позитивном ключе и настаивать на дальнейшем синтезе между формализованными властными структурами внутри институций и растущим влиянием неформальных сетей. Но существует мало доказательств того, что этот милый Третий Путь [25] полезен и реалистичен. Продвигаемая PR-фокусами вера в то, что социальные медиа однажды будут интегрированы в функциональные институции и инфраструктуры, может оказаться не чем иным, как ньюэйджевским оптимизмом в эпоху растущего напряжения вокруг скудных ресурсов. В условиях этого напряжения социальное представляется эдаким суперклеем, который может либо восстановить и заретушировать исторический урон, либо быстро превратиться во взрывчатое вещество. Полностью же избавиться от риска социального взрыва невозможно даже в авторитарных странах. Но игнорирование социальных медиа как какого-то шума на заднем плане тоже может выйти боком. Вот почему институты – от больниц до университетов – нанимают орды временных консультантов, чтобы вести аккаунты в социальных медиа.
Социальные медиа реализуют коммуникацию как обмен: вместо запрета на ответы они требуют ответов или хотя бы технической взаимности. Подобно тому как Бодрийяр окрестил более ранние формы медиа, современные сети – это «пространства взаимосвязи слова и ответа» [26], которые заманивают пользователей, чтобы те сказали что-либо, что угодно. Позднее Бодрийяр изменил свое мнение и отказался от веры в эмансипаторный аспект пререкания с медиа. Восстановление символического обмена не принесло пользы – и всё же именно эту функцию социальные медиа пытаются представить своим пользователям как жест освобождения. Для позднего Бодрийяра значение имела главенствующая позиция молчаливого большинства.
В своем эссе 2012 года «Декларация» Майкл Хардт и Антонио Негри уходят от обсуждения крупных социальных измерений, таких как сообщество, сплоченность и общество. Они рассуждают о бессознательном рабстве: «Люди иногда борются за возможность служить, как будто в этом кроется их спасение». В социальных медиа их в первую очередь интересует вопрос прав личности, а не социальное в целом: «Возможно ли, что в рамках добровольной коммуникации и самовыражения, в своей практике блогинга и использования социальных медиа люди поддерживают, а не оспаривают действия репрессивных сил?» Для нас, медиатизированных, работа и досуг больше не могут быть разделены. Но почему Хардт и Негри не проявили интереса к очевидному факту, что в постоянном соединении с другими существует и позитивная сторона?
Хардт и Негри совершают ошибку, сводя социальный нетворкинг к вопросу медиа, как если бы интернет и смартфоны использовались только для поиска информации. Относительно роли коммуникации они заключают: «Ничто не может превзойти совместное присутствие тел и телесную коммуникацию, являющуюся основой коллективного политического интеллекта и действия» [27]. Связи, формирующиеся в социальных медиа, здесь не что иное, как халтурка, мир сладкой ерунды. В этой ситуации истинная природа медиатизированной социальной жизни остается вне поля зрения, а значит, и неизученной. Встреча социального и медиа не должна подаваться как какой-то гегельянский синтез, как траектория, по которой неизбежно движется Мировая История; и тем не менее мощная, но абстрактная концентрация социальной активности на современных платформах требует глубокого теоретического изучения. Безнадежный призыв Хардта и Негри к отказу от медиации не решает проблему. Как они сами говорят, «нам нужны новые истины, которые будут созданы связанными в сети, коммуницирующими и реально присутствующими сингулярностями». Нам нужен и нетворкинг, и лагерь. В их версии социального «мы роимся, как насекомые» и действуем как «децентрализованное множество сингулярностей, которое коммуницирует горизонтально» [28]. Но нам еще только предстоит обратиться к реальным структурам власти и напряжению, исходящему от них – или сопутствующему им.
Когда мы сосуществуем с социальным онлайн, изучение релевантных мест в европейской социальной теории XIX века кажется смелым, но в конечном счете непродуктивным занятием. Именно это делает дискуссию в Facebook о прекарном труде, Марксе и эксплуатации такой двусмысленной [29]. Взамен нам стоило бы принять процесс социализации таким, какой он есть, и воздержаться от его политизации (например, не стоит преувеличивать значимость Facebook в связи с событиями Арабской весны 2011 года и «движением площадей» [30]). Социальные медиа оказывают на мир почти неразличимое, неформальное, косвенное влияние. Как нам понять этот находящийся за гранью добра и зла социальный поворот в новых медиа в его холодной отстраненности и в то же время интимной близости, как описала это поле израильская исследовательница-социолог Ева Иллуз в книге «Охлажденная интимность» («Cold Intimacies» [31])? Литература, посвященная медиаиндустрии и IT, чаще всего уходит от сложности и многоплановости этих вопросов. Достоинства социальных медиа, такие как доступность и удобство пользования, сами по себе мало что говорят о том, что именно люди ищут там, в сети. Точно так же ограничены и профессиональные неолиберальные дискурсы о доверии, которые пытаются связать новую неформальность со всё более легалистской логикой правил и регуляций.
Несмотря на то что социология как исследовательская дисциплина всё еще с нами, вышеописанная «облитерация социального» повлияла на преуменьшение важности социальной теории в дискуссии, посвященной критике интернета. В противовес этой тенденции веб-социология, освобождающая себя от дихотомии «реальное-виртуальное» и отказывающаяся от сужения исследовательского поля до «социальных импликаций развития технологий» (например, до исследования интернет-зависимости), может сыграть ключевую роль в исследовании того, как сегодня (более, чем когда-либо) переплетены классовый анализ и медиатизация. Как написала мне по этому поводу Ева Иллуз: «Если традиционно социология взывала к нашей проницательности и бдительности в искусстве проводить различения (между потребительской стоимостью и меновой стоимостью, жизненным миром и колонизацией жизненного мира [32] и т. д.), то вызов, который сегодня лежит перед нами, – это упражнение в той же бдительности в социальном мире, который раз за разом разрушает эти различения» [33]. Амстердамский пионер веб-социологии, редактор SocioSite Альберт Бенсхоп предлагает в целом преодолеть различие между реальным и виртуальным. Адаптируя классическую в социологии теорему Томаса, Бенсхоп заявляет: «Если люди определяют сети как реальные, они реальны в их последствиях». Другими словами, для Бенсхопа интернет – это не просто какой-то второсортный мир. Его материализованная виртуальность оказывает воздействие на нашу реальность. То же самое применимо и к социальному. Не существует второй жизни с альтернативными социальными нормами и обычаями. Согласно Бенсхопу, поэтому же нет, строго говоря, необходимости в создании какой-то дополнительной дисциплины [34]. Вопрос о форме социального затрагивает всех нас, он не должен обсуждаться – и присваиваться – только группой гиков и стартап-предпринимателей.
Здесь мы сталкиваемся с главным отличием старой системы медиа, основанной на технологии вещания, от современной парадигмы социальных сетей. Социальные медиа избавились от «людей-кураторов», работавших в «старых медиа», и взамен потребовали от нас постоянного вовлечения посредством кликов. Но машины не создадут для нас жизненно важных связей, сколько бы мыслей и аффектов мы им ни делегировали и вне зависимости от наших попыток раздуть социальный капитал. Мы переключаемся в состояние «интерпассивности», о котором пишут, например, Пфаллер, Жижек и ван Ойнен [35]. Но этот концепт всё еще остается преимущественно дескриптивным и неприменимым для анализа. Он не может поставить под вопрос существующие архитектуры и культуры использования социальных медиа. Дальнейшая критика этих аспектов обусловлена не только подавленной романтической офлайн-сентиментальностью. Люди вполне правомерно испытывают ощущение перегрузки, причем не просто информацией вообще, но и конкретно информацией о жизни других людей, – в той степени, в какой этого требует идея обязательной регистрации в партиципаторных медиа. Нам всем время от времени нужен антракт в этом социальном цирке (хотя кто может себе позволить бесконечно обрывать связи?).
Определение «персонального» по отношению к «социальному» соответствующим образом перерабатывается. «Социальное» в социальных медиа требует от нас восприятия нашей личной истории как чего-то, с чем мы смирились и что преодолели ради участия в социальной жизни в интернете (подумайте о семейных связях, соседях в деревне или в пригороде, школе и колледже, коллегах по работе и знакомых по церкви); в то же время предполагается, что в рамках сегодняшних исторических форм Я мы должны проявлять гордость и представлять себя в лучшем свете – и иногда даже любить кичиться собой. Социальный нетворкинг проживается в формате актуальной потенциальности: я мог бы связаться с тем или иным человеком (но я не буду). С этого момента я буду рассказывать о том, какой бренд предпочитаю (хотя меня никто не спрашивал). Социальное – это коллективная способность представлять связанных субъектов как временный союз. Сила и важность того, что потенциально может значить общение со многими, многими же и ощущается.
Хайдеггеровское «мы не зовем, нас зовут» здесь работает вхолостую [36]. В cети боты контактируют с тобой напрямую, обновления статусов других людей, актуальные или нет, пролетают мимо и пробиваются через фильтр, как бы ты его ни настраивал. В Facebook невозможно быть отшельником. Ты получаешь запросы на добавления в «друзья» без всякого смысла. Для пассивного получателя нарушение работы фильтра – большое событие. Как только ты оказался внутри бурлящего потока социальных медиа, Зов Бытия исходит от софта и приглашает тебя ответить. Здесь пафосному и расслабленному постмодернистскому безразличию как квазиподрывному типу поведения приходит конец. Потому что плевать на всё тут так же бессмысленно, как и не плевать. Мы всё равно не друзья. За нас так решили алгоритмы. Так зачем оставаться в Facebook? Забудьте Twitter. Удалите WhatsApp. Это сильные заявления, но они устарели. Мы уже не в 1990-х. Никто не может занять тупую позицию суверена и оставаться равнодушным по отношению к социальному. «Молчание масс», о котором говорил Бодрийяр, само по себе кажется странной утопией. Социальные медиа были ловким ходом, который заставил людей трещать без умолку. Нельзя забывать об аддиктивной стороне социальных медиа. Нас всех перезапустили. Непристойность банальных мнений и повседневная проституция на подробностях нашей личной жизни сегодня надежно встроены в софт и вовлекают миллиарды пользователей, которые не знают, как соскочить. Есть ли способ выйти из социального так, чтобы этого никто не заметил?





