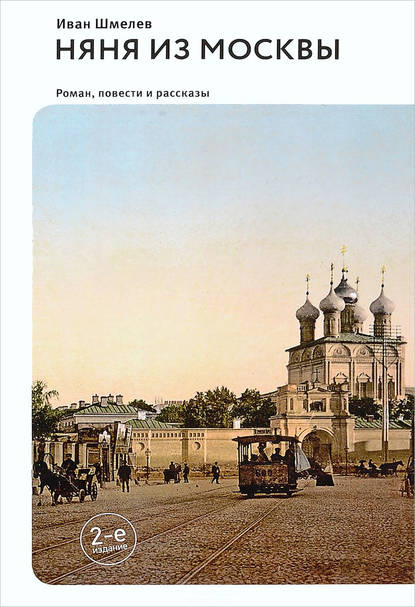Полная версия
В круге света (сборник)
Как нам понять этих стариков, вынесших столько страданий и при этом сумевших сохранить кристальную нравственную чистоту? Как же вышло так, что вырастили они нас – сытых и равнодушных? А мы все смотрим на них, штурмующих почту в очереди за нищенской пенсией или часами просиживающих в больнице в надежде на бесплатный прием, и кроме раздражения ничего к ним не испытываем…
Пришел однажды старенькую бабушку причастить. Прощаюсь уже, а она и говорит мне:
– Жалко сейчас помирать. Жить-то как хорошо стали – как в обед за стол садимся, так целую буханку хлеба кладем!
«Целая буханка» для старушки, пережившей голод, – критерий счастливой жизни…
Нет, что бы там телевизионщики ни твердили, а кризисы нам нужны, ох как нужны! Хотя бы иногда. Ведь «кризис», по-гречески означает «суд», а мы еще добавим от себя: «Божий суд». Бич Божий, разящий наши ледяные сердца. Может, хоть так – через желудок, пусть понемногу, но будем мы обретать потерянный нами Образ. Научимся смотреть друг на друга и видеть в другом – человека, а может, вдруг и сочувствовать ему начнем? А то ведь все обо всем забыли…
Смотрю на молодую женщину, что несет хлеб на помойку, а вижу не ее, а моего кроткого и смиренного ангела, плачущего невидящими глазами в очках с толстенными стеклами, с его такими сегодня смешными и неуместными «кусячила» и «шпекулярила»…
Старики и мы

В пятницу соборовал и причащал старенькую-престаренькую бабушку. Ей уже за девяносто, ходить – не ходит, но сердце – крепкое, и кушает хорошо. Возрастные болезни подступили уже давно, – мучается человек и все никак не помирает. И сама страдает, и дочь устала.
Бабушка эта была нашей старейшей прихожанкой, поэтому все священнодействия я совершал с особым чувством. Кто знает, может, я ее в последний раз причащаю? Прощаясь, ее дочь говорит:
– Спасибо тебе, батюшка! Ты так хорошо все сделал, теперь-то уж она точно умрет.
Совсем телевизор народ испортил: уже и священника в киллеры записали… Не понимают, что соборуем мы людей не для того, чтобы они умирали, а чтобы исцелялись душевно и поправлялись телесно. Нет в последовании таинства соборования, или елеосвящения, ни одного слова о смерти. Не верят: давай, батюшка, «мочи» бабушку!
Старость и болезни – причины страданий. Действительно, долгая жизнь – это благословение или проклятие? Вопрос о страданиях – краеугольный вопрос нашего бытия. Даже не знаешь, кому порой приходится тяжелее – тем, кто мучается и умирает, или тем, кто находится рядом с умирающими.
Сегодня мы все чаще и чаще слышим об эвтаназии. На самом деле она у нас давно уже действует, только нелегально. Как удобно: укольчик бабушке сделали, и нет проблем! Помолились, конечно, поплакали, как положено, а все ж как удобно! Ты не видишь страданий близкого человека, не чувствуешь его боли, тебе не нужно сопереживать. И с практической стороны – несомненная выгода: высвобождается жилплощадь для внуков – раз; не нужна сиделка – два; ты свободен и волен планировать свое время… А государству какая польза! Нет нужды платить пенсии старикам и инвалидам, выделять бесплатные лекарства, предоставлять скидки и льготы. А о домах престарелых забыли? Сплошная экономия! Все чаще и чаще по телевизору ведется непрямая, но последовательная агитация за введение у нас эвтаназии. Увы, общество стареет и другого выхода не видит. Скоро на каждого работающего будет приходиться по пенсионеру.
Но у этой проблемы есть здесь и другая сторона. Вот у дочери нашей старосты парализовало свекра. У них самих – «двушка», причем одна комнатка – проходная, сами живут, да еще двое детей. Если брать деда, то куда девать шкаф, стол? Советуется с матерью, вот, мол, его дочь отказалась, и нам тоже девать некуда. Мать отвечает, ничего, мол, на кухне устроитесь, а деда берите! Послушались, взяли. Больше всех дедушке обрадовался его внук, Санька. Он не отходил от старика, рассказывал ему новости, читал сказки, рядом с дедом даже уроки делал. Короче говоря, тому деваться было некуда, быстренько поправился и бегом домой. «А вот теперь, дочка, – говорит мама, – твои дети точно знают, как поступать с вами в такой же ситуации. Не оставят умирать в больнице на чужих руках». Так вырабатывается поведенческий алгоритм или условный рефлекс, или по-простому, воспитывается человечность.
Однажды женщина плакала в храме: мать ее уже совсем из ума выжила, под себя ходит, а потом на стене рисует, как ребенок.
– Устала, – говорит, – от нее, довела меня до белого каления! И уж не знаю, как это у меня вышло, но ударила я ее, батюшка, а в ту же ночь она у меня умерла. Как будто специально все было подстроено!
Не хочу никого осуждать: ухаживать за больными родственниками – это тяжкий крест. И в то же время все, что Господь нам ни посылает, Он посылает для нашей же пользы. Ведь нам надо так жизнь прожить, чтобы в конце концов сделаться настоящим человеком. Это непросто. Вот кается человек перед смертью, плачет, говорит, что сожалеет о грехах прошлого, но этого мало. Чтобы быть сродным Небу, нужно еще и опыт небесной жизни иметь. Разве станешь человеком, не преодолев в себе грех, разве научишься чему-либо без многих трудов? Подвиг нужен. Рай и ад начинаются на земле. Личность не формируется вне отношений с Богом.
Ухаживая за старыми и немощными, мы сами прежде всего становимся сильными, терпеливыми, милосердными, самоотверженными. А если начнем подрезать стариков и больных, то и не заметим, как все это душегубство на поток поставим. В кого же мы тогда превратимся? Посмотрите, реклама в нас вдалбливает: живи для удовольствия. А что, разве жизнь – сплошное удовольствие и цель жизни состоит исключительно в достижении кайфа? Тогда воплощение такой «жизни» – наркоман с глазами без зрачков.
Жизнь – вещь крайне жесткая. Из нее все больше уходят чувства, способность сопереживать, готовность жертвовать чем-то значительным ради других. Христианство и поиск удовольствий – понятия несовместимые. Мы привыкли к удобствам. Мне кажется, когда придет антихрист, ему будет достаточно отключить в домах свет и воду, и мы сами на коленях к нему поползем.
Посмотрите на логику развития событий. В течение последней сотни лет нас методично подводят под какой-то усредненный знаменатель, пытаются вместить в прокрустово ложе одинаковости. Личность как таковая становится нежелательна, сегодня царит торжество середнячков. Общество рационализируется и подчиняется законам конвейера. Все детали должны устанавливаться строго на свои позиции, любое отклонение от усредненного – брак. Не общество, а работающий механизм, изношенные компоненты которого утилизируют, потому что они сами по себе – ничто.
Вспомните, до революции существовали разные сословия, представители которых весьма отличались от людей из иного круга. Перейти из одного состояния в другое было непросто. В первые десятилетия советской власти еще можно было узнать в толпе учителя или врача, по молодцеватой выправке определить военного человека. Сегодня невозможно понять, кто есть кто. Мы отличаемся друг от друга лишь стоимостью одежды и престижностью автомобилей, вот и ломай голову, кто перед тобой – успешный предприниматель или бандит, нищий или педагог. Серая ограниченная масса, отсутствие ярких индивидуальностей… Думаю, в этом состоит одна из причин, почему наш владыка требует от нас, своих священников, отличаться внешним видом, чтобы мы были узнаваемы.
Пришел к одной женщине. Ее старенькая мама уже совсем впала в детство, десять месяцев лежала и ходила под себя. Все это время дочь каждый день после работы бежала к матери, убирала, стирала, кормила, подмывала, а потом домой – там же осталась семья! И так – все десять месяцев, без выходных. Я задал ей провокационный вопрос:
– А почему бы тебе не сдать мать в дом престарелых? Сдашь – и никаких забот.
– Что вы говорите, батюшка?! Это же моя мать! Столько времени она за мной ходила, как же я ее сейчас предам?
Пишу и вспоминаю усталые глаза женщины и натруженные руки с набухшими узелками вен. Время прошло, но до сих пор у меня не исчезает возникшее тогда желание поклониться ей и поцеловать эти руки.
Большой Гена

Было это году в 2001-м. Помню, в храм пришел сухощавый высокий старик. Появился в воскресенье – в день для нас самый напряженный. По воскресеньям мы и служим по полдня, и многие специально приходят пообщаться со священником. У всех проблемы, вопросы… Пришел он без всяких предварительных договоренностей и попросил его окрестить. Говорю ему:
– Отец, может, в другой день встретимся?
А он:
– Нет, батюшка, крести сейчас! Я так долго собирался с духом, что боюсь, этого духа мне на большее и не хватит.
Для того чтобы крестить Большого Гену (позже мне стало известно это его прозвище), нужно было затратить не меньше сорока минут. Значит, кому-то придется ждать. Гена относился к тем людям, которые, крестившись, больше в церковь не приходят. Вроде и крестить его без дальнейшего продолжения не имело смысла, но и возраст Гены внушал уважение. Не окрещу его сейчас, а потом, глядишь, он и вообще не придет, так и помрет некрещеным. Я же потом места себе не найду, совесть замучает. Это же не игрушка – душа человеческая, с меня же за нее потом спросят!
Пришлось мне крестить Большого Гену в тот воскресный день, хотя сердце мое и не было к этому расположено. И вот, когда уже завершал таинство, я бросил взгляд на Гену, а он надевает на себя новенькую белую маечку и крестик к груди прижимает. Потом, смотрю, жена подходит и подает ему свежую белую рубашку. Только тогда я поверил Гене. Понял, что его поход в церковь действительно потребовал от него значительного усилия. Он по-своему готовился к нему и крещение принял трепетно и как-то по-детски торжественно. Его встреча с Богом состоялась. Никогда больше я не видел, чтобы взрослый человек себе крестильную рубашку готовил или из темной одежды переодевался в белую. Белый цвет – символ душевной чистоты, наступающей после таинства, и Гена это понимал каким-то наитием. Недооценил я его порыв… Мне стало стыдно, что с самого начала отнесся невнимательно к этой душе. Мы потом с ним еще говорили, я рассказал ему, как надо молиться, приглашал приходить на литургию, но, как и предполагал, в храме его больше не видел. Не думаю, чтобы он ездил в какое-то другое место. Я понемногу уже стал забывать о Большом Гене, как вдруг он вновь напомнил о себе.
Мы тогда Великим постом четыре года подряд ходили по квартирам в поселке и собирали пожертвования. Во-первых, нужно было восстанавливать храм, приводить его в божеский вид, а во-вторых, и в этом состояла на самом деле главная цель наших походов – постучать в каждую дверь и сказать: «Посмотри, вон там, на горе, – храм. Подними глаза, задумайся о вечности и приходи!»
Перед тем как отправлять сборщиков по квартирам, мы их долго готовили, специально отбирая людей постарше, – к ним больше уважения.
Молились о них и с ними. В каждый дом ходили только те, кто в нем и жил. Жители должны были знать церковных ходоков в лицо. Ходили по двое, как в Евангелии. Независимо от размера пожертвования, сборщики переписывали имена всех крещеных жильцов, а потом священник поминал этих людей на проскомидии. Четыре года мы поминали поименно почти всех жителей поселка. Денег, правда, собрали немного, но зато достучались до каждой семьи, а уж решать каждый должен сам. По сотне душ каждый год отпеваем. За четыре года – это четыреста человек. Может, кто-нибудь из них и услышал…

Чего только не испытали на себе наши апостолы! И прогоняли их, и оскорбляли. Не понимаю я: ну не хочешь ты жертвовать, так закрой тихонько дверь или дай десять копеек, но зачем же обижать пожилых людей, с которыми живешь в одном дворе? Как потом в глаза им смотреть будешь? А кричать зачем? Наверно, чтобы уверить себя в собственной правоте.
Возвращается к тебе такой сборщик и говорит со слезами:
– Батюшка, уволь, не могу больше! Сил нет все это выслушивать!
А на другой день подойдет и вновь просит благословения продолжать:
– Кто им еще о Боге скажет? Иеговисты? Да и не все нас обижают, далеко не все! Многие благодарят, что пришли, чаем угощают. Дальше пойдем…
Смотришь на ведомости пожертвований и удивляешься: самыми скаредными оказываются люди по-настоящему зажиточные. Жертвовали они в основном рублей по десять, редко кто давал двадцать. Бедняки – сердечнее. Самый богатый человек в поселке в первый же год вышел из квартиры, развернул моих апостолов лицом к лестничному пролету и предупредил:
– Придете еще хоть раз, скину вниз головой!
Может, потому он и такой богатый? Хотя, наверное, я впадаю в осуждение. К людям состоятельным и без нас много просителей приходят, надоели…
Но возвращаюсь к Большому Гене. В его дом пришли мои проповедники. Гена открыл им дверь, обрадовался и пригласил войти. Он был один, хозяйка ушла на весь день. На просьбу сборщиков отреагировал без колебаний. Достал заветные десять рублей и сказал:
– Мне жена на пиво выдает по десятке на два дня, остальные прячет. Так что это – все, что у меня есть. Можно я их отдам?
Рассказывают: отдал и так обрадовался, что даже прослезился. В ту же ночь Большой Гена умер. Он ничем не болел и умирать не собирался, но, видимо, Господь на самом деле забирает человека в самый подходящий момент. На максимуме каком-то, что ли. На максимуме добра или зла. И у каждого этот максимум – свой. Для Большого Гены в его отношениях с Богом в тот день, наверное, наступил момент истины. Он, как та вдовица, отдал свои «две лепты» – все, что имел, и его заметили.
Много воды утекло с тех пор. Многие люди, кому мы бесконечно благодарны и на чьи пожертвования восстал наш красавец храм, жертвовали с радостью, но больше, чем Гена, так никто в кружку и не положил.
Царство ему Небесное. Я очень хочу в это верить!
Рабоведение

Вы, наверно, думаете, что я сделал ошибку в заглавии и должен был написать что-нибудь вроде «рыбоведения» или «расоведения». Нет, рабоведение – это новая сфера знаний, наука о рабах (нужно будет термин запатентовать!).
Время, говорят, по спирали движется, вот мы и приехали. Вам приходилось покупать человека, как вещь? А вот мне пришлось… Несколько лет тому назад покупал человека за наличный расчет. Так что – небольшой опыт для будущего учебника.
Сегодня вспоминаю об этом случае как о курьезе, а тогда мне было совсем не до смеха! Думаю, ни один храм в провинции, да и в столицах, пожалуй, наверняка не обошелся в своей новейшей истории без мозолистых рук наших братьев-мусульман, выходцев из Средней Азии. Когда у нас в России появилась необходимость строить, то оказалось, что в бывших союзных республиках только и делали, что готовили специалистов для наших строительных объектов. Поток азиатов пошел лавиной, они были дешевы и востребованы.
Пару сезонов потрудились узбеки и на возведении нашего храма. Они нас тогда здорово выручили! С одним из них, бригадиром строителей по имени Файзула, мы даже подружились. Файзула – человек грамотный, с высшим образованием, учился в Москве. Безусловно, интеллигент, и по своему внутреннему устроению человек порядочнейший. У него – пятеро детей. Четверым он уже дал высшее образование, девочек выдал замуж, младшенького, самого любимого, готовит для учебы в медресе (исламском религиозном учебном заведении). Постится, задавал много вопросов о христианстве, рассказывал о своей вере.
Остальные ребятки-строители – молодежь. Такие же, как и наши, – смешливые и глупые. Не многие могут говорить по-русски. В этом и состояла главная сложность. Договариваться приходилось через бригадира, с ним же и работу принимали. Кто-то работал очень хорошо, кто-то пытался филонить, но это уже была не моя проблема. Заработанные деньги распределял бригадир, и дисциплина у них была – как у американцев в Гуантанамо. Штрафовал беспощадно, невзирая на то что молодежь эта по большей части приходилась ему родственниками. Ни капли спиртного и никаких других нарушений, к нашему удовольствию, в бригаде мы не замечали. Отбой – в десять часов вечера, подъем – в шесть утра. Файзула говорил:
– Не будет дисциплины, я этот молодняк в течение рабочего сезона в узде не продержу, а мне их еще и родителям вернуть нужно в целости и сохранности!
Понятное дело, что при таких порядках непременно окажутся недовольные. На следующий год несколько свободолюбивых племянников откололись от дядьки-бригадира. Поехали в Москву самостоятельно, без языка, без денег и без головы. Не знаю, как остальные, но одного из них в Москве на вокзале сцапали сотрудники милиции. Конечно, наша милиция нас бережет, но эти оказались, как сегодня говорят, «оборотнями в погонах». Из корыстных побуждений они продали мальчишку, который впервые приехал в Москву, привокзальным таксистам, промышляющим работорговлей. Это – уже настоящие бандиты. И у них не ищи сочувствия…
Вообще, вся эта история напоминает мне фильм о маленьких черепашках, которые выводятся из яиц где-то на тихоокеанских островах. Выползая из теплого песка, им чуть ли не сотню метров нужно бежать в сторону моря. Хищники уже собрались и ждут этого часа – здесь и чайки, и вараны, и крабы, а в море – еще и прожорливые рыбы. Так что из тысяч добегает едва ли сотня. Вот и эти работяги приезжали к нам, а на вокзалах их уже ждали – и «оборотни в погонах», и таксисты-бандиты, свои «басмачи».
Мудрый Файзула всегда нанимал милицию в качестве сопровождения, а глупый племянник стал черепашкой, которую и съели. «Кто за тебя может заплатить?» – спрашивают его, а он только глазами хлопает. Судьба тех, кого не перекупят, плачевна. Возможно, сейчас этого уже нет, а тогда можно было и вовсе сгинуть. На счастье, у этого пацаненка, не знаю уж каким образом, оказался номер моего мобильного телефона. Мне звонят и спрашивают, мол, не знаете ли вы такого-то, и называют имя, которое я, и специально выучив, не повторю. Думал, меня разыгрывают, но потом вдруг прозвучало имя Файзулы и я понял, что кто-то из его сродников попал в плен. Спросил о требуемой сумме, мне ее назвали, мы поторговались, и я сказал: приезжайте.
Все время, пока я ждал «гостей», мне рисовался ражий детина с бычьей шеей, на которой будет висеть православный крест. Понятное дело, для него крест – только украшение, а для меня-то в нем состоит вся жизнь. Представил, как этот бандит с крестом на шее будет мне, православному попу, продавать мальчишку-мусульманина, и мне стало удушливо стыдно. Что я потом скажу этому узбечонку? Какими экономическими трудностями объясню, почему мы так оскотинились? Этот вопрос был тогда для меня столь труден, что я почувствовал, что меня бьет нервная лихорадка. «А может, он увидит, что я – священник, и ему станет стыдно? – думал я о бандите. – Бывают же такие случаи, наверно? Ведь должна же и у него быть совесть?»
Вот с такими мыслями я и коротал время.
Наконец подъехал черный автомобиль с шашечками не крыше, и из машины вышли мальчик-подросток и здоровенный амбал. Его шея оказалась именно такой, какой я ее себе и представлял. Иду навстречу и вижу, что на толстенной золотой цепи висит… что бы вы думали? Крест? Нет! Полумесяц. Как же я возликовал! Передо мной стоял татарин-мусульманин, который продавал мне узбекского мальчика-мусульманина. Напряжение сразу же оставило меня, и я готов был даже обнять бандита, так он мне вдруг стал симпатичен.
Таксист с удивлением смотрел на меня. Во-первых, он не ожидал увидеть православного священника, во-вторых, никак не мог понять, отчего я так веселюсь.
– Ты чему радуешься? – хмуро спросил он у меня.
– Я радуюсь тому, что ты – мусульманин, а не православный.
Ему больше ничего не нужно было объяснять. Я смотрел в маленькие черные глазки бандита и видел, как в них закипает ненависть.
– Если бы я знал, что ты поп, – сказал он в сердцах, – никогда бы не приехал к тебе!
Он получил деньги, но взамен потерял все остальное. Я торжествовал: пускай теперь мой вопрос душит его, если, конечно, эту шею можно хоть чем-то пронять.
Я забрал мальчишку и документы. После нескольких часов изматывающего ожидания все разрешилось наилучшим образом. Душа моя пела: «Вот так, ребята-мусульмане! Как мы вас, а? Потому что мы – выше, нравственнее, порядочнее вас!» Но потом вспомнил Файзулу и почувствовал, как моя совесть начинает обличать меня: ведь и он тоже мусульманин! Я представил, что если бы мой родственник или друг попал в беду где-нибудь там, на юге, неужели Файзула отказал бы ему в помощи? Да он бы последнюю рубашку с себя снял…
Дело обстоит куда проще: если ты бандит, или «оборотень», или еще какой-нибудь хищник, то что бы ни украшало твою шею, оно только обличит тебя. Живущий перед лицом Бога – будь он христианином или мусульманином, всегда протянет руку помощи тому, кому это необходимо, не опускаясь до религиозных и национальных различий. Вера учит быть человеком и видеть в другом прежде всего человека. И потом, подлинно верующему не нужна никакая благодарность, потому что творить добро для него – так же естественно, как и дышать.
Лучшая песня о любви
Какая, в сущности, смешная вышла жизнь,Хотя что может быть красивее,Чем сидеть на облачке и, свесив ножки вниз,Друг друга называть по имени.Илья Калинников. Лучшая песня о любви
По соседству с нашим храмом уже лет шестьдесят стоит небольшой поселок, состоящий из нескольких дощатых бараков по две или четыре квартиры. Во время войны там располагалась воинская часть, потом военные ушли, а их землянки и бараки остались. В них поселились люди, потерявшие свои жилища. Когда селились, думали, временно, но оказалось – навсегда. Так возник поселок Снегиревка, по фамилии командира стоявшей там прежде части. У этих людей рождались дети, а потом и внуки, и жили они своим маленьким мирком в своем маленьком поселке. Мало кто из них вышел в значительные люди, но и те, уезжая, начинали стесняться прошлого и почти не привозили своих детей и друзей в бараки своего детства. В одном из таких домиков жила молодая красивая женщина по имени Алена. В жилах ее текла кровь южных славян. Как это нередко случается с симпатичными девчонками, не все у нее ладилось в личной жизни. К тому времени ей уже перевалило за тридцать, а изменений к лучшему все не предвиделось.
Алена была женщиной доброй, способной отозваться на чужую беду и прийти на помощь. Однажды летом, уже за полночь, лихой мотоциклист из соседнего городка на большой скорости решил промчаться по Снегиревке, но, не справившись с управлением, вылетел из седла и сильно разбился. Придя в сознание, он еще долго ползал грязный, в крови, с перебитым позвоночником от одного барака к другому, но никто на его крики и плач не отозвался. Только Алена, находясь дома одна, не побоялась так поздно отворить дверь незнакомому человеку, ответить на его мольбу. Не открой она тогда, мотоциклист вряд ли бы выжил, а сейчас у него уже свои дети подрастают…
И вдруг – любовь. Страстная и взаимная. Она пришла совершенно неожиданно. Свалилась как снег на голову. Такая любовь, о которой любая женщина может только мечтать. В соседнем городе открылось иностранное предприятие. Тогда у нас это было еще в новинку. К нам приехали немцы. Они привезли с собой старенькое оборудование начала шестидесятых, смонтировали его и заставили варить шоколад. Одним из тех, кто этим занимался, был швейцарец Питер. Потом на фабрику стали набирать местные кадры, взяли и Алену. И, как в сказках говорится, они встретились, чтобы уже больше никогда не расставаться. Через какое-то время молодые люди стали жить вместе и Питер переехал в барак к Алене. Он научился ладить со своей будущей тещей, перезнакомился со всеми снегиревцами. Как они находили общий язык? Непонятно. Ведь Питер не знал русского. С Аленкой они изъяснялись на странной смеси из нескольких языков, сопровождая ее выразительными жестами.
Пришло время окончательно определяться в дальнейшей жизни, и они решили пожениться. Для того чтобы венчаться по православному обряду, Питер принял православие. Крестившись, швейцарец стал русским, и, более того, он стал снегиревцем. После окончания командировки Питер должен был возвращаться в Европу, но Алена не захотела уезжать, и ее муж остался в нашем городе. Так, вместе, они прожили около года. Через какое-то время Питер уехал за границу по делам фирмы. Жена стала его ждать. И вдруг тревожная весть: перед Новым годом Аленка пропала. Ее искали везде, но только через неделю мать нашла ее в морге в одном из городов соседней области. Оказалось – несчастный случай. Никому ничего не сказав, она уехала за подарками. Дорожки были скользкими, Алена поскользнулась и упала на спину, ударившись головой о бордюр. Смерть наступила мгновенно.