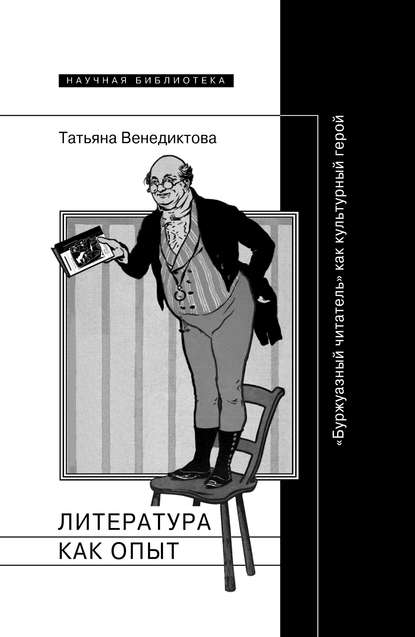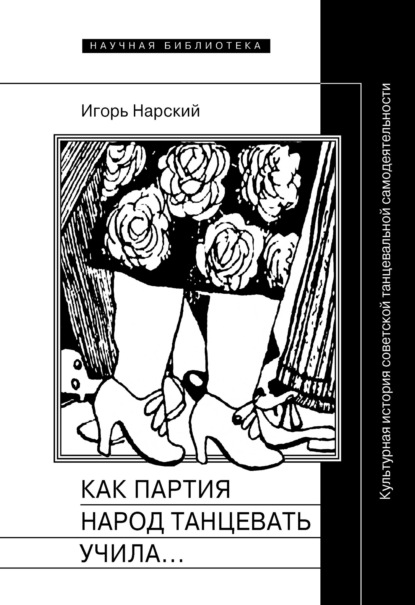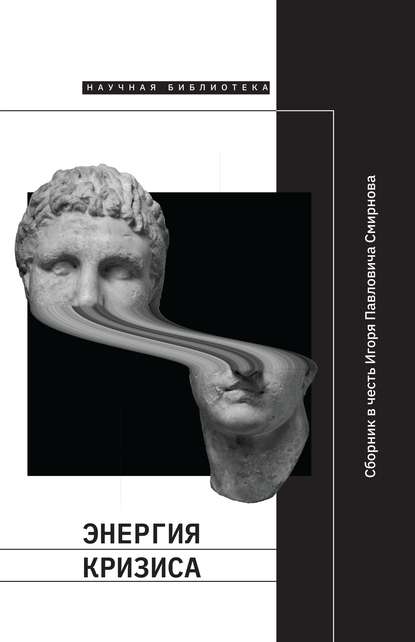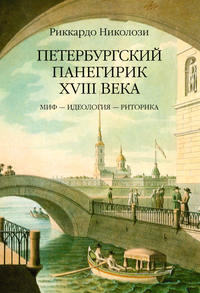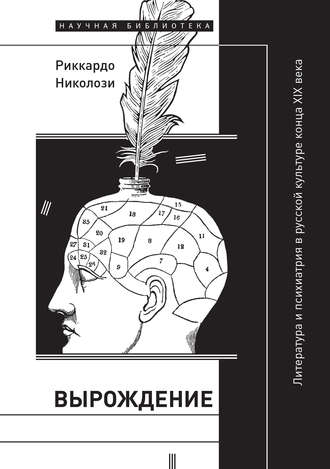
Полная версия
Вырождение
В логике сведением к абсурду называют форму аргументации, опровергающую какой-либо тезис путем демонстрации вытекающего из него неприемлемого следствия или противоречия («абсурдности»). Частный случай сведения к абсурду – метод доказательства «от противного» (апагогического), когда верность тезиса доказывается путем опровержения противоположного утверждения[414]. Аргумент reductio ad absurdum использовал, в частности, Галилео Галилей для опровержения Аристотелева закона падения в «Беседах и математических доказательствах» («Discorsi e dimostrazioni matematiche», 1638). Доказательство Галилея считается образцовым мысленным экспериментом. Сначала Галилей делает контрфактуальное предположение о правильности Аристотелева утверждения, согласно которому тяжелые предметы падают быстрее легких; затем он указывает, что два соединенных веревкой шара, тяжелый и легкий, в соответствии с теорией Аристотеля будут падать одновременно и быстрее и медленнее, чем отдельно взятый тяжелый шар. Тем самым Галилей доказывает наличие в теории противоречия, делающего ее несостоятельной[415].
Однако сфера применения принципа reductio ad absurdum не ограничивается точными науками. Уже Платон («Государство» I, 338c–343a) использует его в целях диалектики. Нередко к нему прибегают и в повседневной жизни, поскольку прием доведения до абсурда – это одна из наиболее распространенных форм контрфактуального вымысла вообще[416]. Контрфактуальные предположения – это предположения о неактуализированных возможностях вида: «Если бы p было справедливо, то справедливо было бы и q», – причем антецедент, т. е. посылка «если бы p было справедливо», явно ложен либо его ложность подразумевается говорящим. Контрфактуальные рассуждения могут облекаться в более или менее развитую языковую структуру: в этом случае говорят о «контрфактуальных имагинациях»[417].
Ввиду мощного имагинативного потенциала контрфактуальности сведение к абсурду может принимать формы, в которых наблюдается принципиальная проницаемость границы между наукой и литературой – результат переплетения нарративных, риторических и аргументационных приемов обоих дискурсов. С одной стороны, в некоторых научных мысленных экспериментах такая формально-логическая аргументационная структура обнаруживает выраженный риторико-нарративный аспект, существенно повышающий убедительность аргументации. С другой стороны, прием сведения к абсурду используется в фикциональных текстах, разоблачающих с его помощью определенные эпистемологические концепции. Таковы, например, вольтеровские contes philosophiques. В повести «Человек с сорока экю» («L’Homme aux quarante écus», 1768) Вольтер стремится опровергнуть экономическую теорию физиократов, инсценируя фиктивный мир, где эта теория воплотилась в жизнь, и показывая вытекающие отсюда нелепые следствия, призванные свидетельствовать о нелепости предпосылок[418]. При этом, однако, речь идет не о доказательстве от противного, подтверждающем верность противоположных взглядов, а о как можно более наглядном опровержении этой теории, разоблачаемой в ходе мысленного эксперимента как фиктивный, чисто воображаемый порядок, как «стратегия маскировки фактической несостоятельности и бессмысленности»[419].
Похожее моделирование фиктивного мира согласно принципу reductio ad absurdum характерно и для некоторых русских романов о вырождении. В поэтологическом смысле такая структура аргументации ведет к формированию специфических повествовательных стратегий, придающих литературному произведению характер фикционального мысленного эксперимента. В эпистемологическом смысле эти тексты, в отличие от романов Золя, служат не верификации, а оспариванию научных постулатов биологизма и их познавательной ценности.
Сам по себе вывод о наличии в литературе натурализма (выражаясь языком Фуко[420]) «противодискурсивного» потенциала, как было показано в главе II.2, не нов. Обращаясь к научным концепциям наследственности или вырождения, литература натурализма может оспаривать действенность этих моделей. Так, Райнер Варнинг показал, что трансгрессивные фантазии Золя – это образы «дикого бытия» жизни, «разбивающие посредством письма» (zerschreiben) указанные научные построения[421], а Иоахим Кюппер продемонстрировал, что сюжет романа Джованни Верги «Мастро дон Джезуальдо» («Mastro don Gesualdo», 1888) подчеркивает фундаментальную бессмысленность естественного[422].
Как будет показано в дальнейшем (гл. III.2 и III.3), от этой натуралистической «противодискурсии» некоторые русские романы о вырождении отличает лежащая в их основе контрфактуальная аргументационная структура сведения к абсурду. Это превращает их в своеобразные «романы опровержения идей»: сначала они симулируют натуралистический фиктивный мир с его типичной для roman à thèse ролью иллюстрации детерминистской картины мира, а затем доводят его до абсурда, показывая противоречивость («абсурдность») такой модели действительности. В «Братьях Карамазовых» Достоевского и в «Приваловских миллионах» Мамина-Сибиряка инсценируются фикциональные опыты, в ходе которых типичное натуралистическое мировоззрение сначала контрфактически принимается за истину. Однако вместо того чтобы представить наследственность и вырождение как фундаментальные, неизменные первозданные силы, как часть биологически детерминированной глубинной структуры мира, оба писателя вводят эти теории в общее знание (doxa) художественного мира. Псевдонаучные рассуждения персонажей о наследственности и вырождении вносят в вымышленный мир особое биологически мотивированное смятение. Сюжет обоих романов в конечном счете опровергает научное представление о детерминированном ходе вещей: развитие действия приводит к последствиям, противоречащим предполагаемому устройству созданного мира, и разоблачает его как ложную модель. Индексальные знаки, поначалу как будто указывающие на существование детерминистских закономерностей, в конце концов предстают в радикально ином свете, оставляя человека в хаотическом царстве случая. При этом романы Достоевского и Мамина-Сибиряка не только демонстрируют «абсурдность» научных теорий, но и сводят к абсурду их натуралистическую репрезентацию – иными словами, экспериментальную поэтику Золя. Тем самым оба русских писателя ставят под вопрос саму возможность повествовательного изложения научных парадигм, утверждаемую натурализмом.
III.2. Карамазовская кровь. Наследственность, эксперимент и натурализм в последнем романе Достоевского
Литература и наследственность: эксперименты, контрэксперименты, контрфактуальностьПередается ли по наследству «карамазовщина», иными словами – вся совокупность нравственно порочных, ненормальных качеств Федора Павловича Карамазова? В романе «Братья Карамазовы» (1879–1880) этот вопрос ставится с прямо-таки навязчивой частотой. Идет ли речь о некоей необоримой биологической данности, оказывающей неизбежное отрицательное воздействие на поступки и решения братьев? Вопрос о биологической сущности рода и о передаче ее дальнейшим поколениям – это вопрос о наследственности. В последнем романе Ф. М. Достоевского вопрос этот – таков мой тезис – обнаруживает дискурсивную и интертекстуальную связь с двадцатитомным циклом романов Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893). Выше подробно показано (гл. II.2 и III.1), что во второй половине XIX века семейная эпопея Золя, как никакое другое литературное произведение, способствовала выработке интердискурсивных нарративов о наследственности и вырождении[423].
Утверждать это – отнюдь не значит упускать из виду глубокие различия между творчеством Достоевского и Золя. Нужно сразу оговориться, что в связи с «Братьями Карамазовыми» не приходится говорить ни об адаптации, ни о верификации научных концепций, менее же всего – о создании художественного мира, управляемого законами детерминизма. Фикциональная реальность последнего романа Достоевского скорее пронизана тревожным предположением о власти детерминистских закономерностей, прежде всего наследственности. Такого мнения придерживаются не только носители тривиально-позитивистских взглядов, в частности Ракитин: в первую очередь это предположение не дает покоя самим братьям Карамазовым. В сравнении с литературой натурализма это означает, что с уровня автора, выступающего в роли ученого наблюдателя и экспериментатора, вопрос о наследственности переносится на уровень действующих лиц, которые, наблюдая ее проявления как в самих себе, так и в других, размышляют о ее возможном влиянии на человеческие решения и поступки.
С одной стороны, это в значительной степени лишает вопрос о наследственности медицинских коннотаций, превращая его в смутное зловещее представление о некоей непреодолимой биологической силе[424]. С другой стороны, деаукториализация этой проблемы, т. е. упразднение фигуры автора как воплощения медицинской нормализации, перекладывает задачу разграничения нормы и патологии на самих персонажей полифонически организованного романа. Это не только наглядно демонстрирует всю зыбкость такой границы, в конечном счете произвольной, но и выявляет возможные драматические последствия подобного биологически мотивированного смятения[425]. В результате «Братья Карамазовы» предстают нарративной инсценировкой свойственного европейской культуре конца XIX века «страха перед денормализацией» (Ю. Линк), вызванного, как разъяснялось выше (гл. II.1), туманным, не получившим строгой научной дефиниции представлением о наследственных дегенеративных процессах[426].
Неустойчивый, неопределенный онтологический статус наследственности равносилен фантасмагорической природе трех тысяч рублей, в которые Дмитрий Карамазов оценивает еще не выплаченную ему долю наследства. Тема наследия, в рамках которой наследство и наследственность взаимосвязаны не только этимологически (гл. III.3), придает имущественной распре символический смысл. Дмитрий недаром полагает, что отец лишил его материнского наследства. Борьба сына за наследство равносильна борьбе за здоровую, как утверждается, материнскую наследственность против унаследованных от отца болезненных качеств. Предположение Дмитрия, что от убийства его удержала мать, которая «умолила бога»[427], можно истолковать как указание на здоровую материнскую наследственность, в решающий миг возобладавшую над карамазовскими инстинктами. Пожалуй, Аделаида Ивановна Миусова, «‹…› дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательною физическою силой»[428], составляет единственный здоровый элемент в системе персонажей карамазовского семейства, чье наследие – и наследство, и наследственность – предстает некоей призрачной величиной.
Проблема дурной наследственности составляет семантическое ядро семейного вопроса, вокруг которого Достоевский в «Братьях Карамазовых» группирует и по-новому осмысляет свои старые темы: веру и мораль, человеческое достоинство и свободу воли, преступление и наказание, убийство и самоубийство. Так, важнейшую в своем творчестве проблему нарушения и попрания убийцей моральных запретов писатель раскрывает на примере отцеубийства, радикализируя фундаментальный вопрос о том, «зачем живет такой человек», которым уже задавался Раскольников в отношении старухи-процентщицы. Точно так же заостряется проблематика, связанная с аксиомой «если бога нет, то все позволено», поскольку отцеубийство явно мыслится равносильным богоборчеству. Наряду с «Бесами» (1871–1872) и «Подростком» (1875) «Братья Карамазовы» – это попытка писателя создать собственных «Отцов и детей». Все три романа Достоевского посвящены «разложению» русской семьи, о котором он неоднократно рассуждал в «Дневнике писателя» (1872–1881) и которое находится в центре всего его позднего творчества. Сначала, в «Подростке», Достоевский обличал это разложение при помощи техники, задуманной как «разложение» аукториальной формы повествования. В этом отношении «Братья Карамазовы» как будто знаменуют собой возвращение к традиционной романной форме: отказавшись от персональной повествовательной ситуации «Подростка» с ее ненадежным, склонным к рисовке рассказчиком, писатель обращается к аукториальной ситуации романа идей с целью как можно более отчетливо выразить собственную позицию[429]. На примере «нестройного семейства»[430] Достоевский хотел показать разложение русского общественного организма, части которого, по мнению писателя, утратили друг с другом естественную связь[431].
Инсценировка Достоевским фиктивного мира, зараженного идеей наследственности, рассматривается ниже как контрфактуальный контрэксперимент, направленный против экспериментального цикла Золя. Симуляция экспериментальных условий, характерных для романов французского писателя, с похожей системой персонажей, на первый взгляд подвластных биологическим силам, призвана вскрыть внутреннюю противоречивость такой ситуации. История, которую рассказывает Достоевский, стремится подтвердить не натуралистический детерминизм, а свободу человеческой воли, априорно постулированную автором. В отличие от эпопеи Золя, рисующей биологически и социально предопределенное вырождение одной семьи в эпоху Второй империи, история семейства Карамазовых, согласно прослеживаемому авторскому замыслу, должна продемонстрировать преодолимость дурной наследственности и указать на возможность возрождения, понятого в христианском ключе[432]. Несмотря на общее биологическое происхождение, судьбы братьев Карамазовых складываются по-разному, свидетельствуя об ответственности человека за свои поступки, не уменьшаемой ни внешними, ни внутренними детерминирующими факторами.
В очерке «Среда» (1873) Достоевский ясно высказался о позитивистской теории, составляющей социологическое соответствие биологической теории наследственности. Показательны слова писателя об ответственности преступника за свое преступление. Ставя человека в зависимость от пороков общественного устройства, теория среды отказывает людям в индивидуальности, самостоятельности и ответственности. Человек приравнивается к животному. Христианство, напротив, возлагает на человека ответственность за его поступки, признавая человеческую свободу[433]. В этом смысле опровержение концепции наследственности вписывается в широкий контекст полемики Достоевского с западными позитивистскими теориями, которые, по его мнению, лишают мир метафизического измерения, тем самым уничтожая любые гарантии мирской нравственности[434].
Инсценируя натуралистическую экспериментальную ситуацию, писатель осуществляет фикциональное вмешательство в действительность, предоставляя натуралистическое моделирование мира вымышленным героям. Поэтому поставленный Достоевским контрэксперимент можно назвать литературным воплощением приема reductio ad absurdum. Положенная в основу опыта гипотеза (в заостренной формулировке) могла бы звучать так: опасно ли человеку полагать, что он «функционирует» подобно персонажам натуралистической литературы? Впрочем, как будет показано, в тексте одновременно содержится и противоположный смысл, грозящий сорвать контрэксперимент с «порченой» карамазовской кровью. Опровержение теории наследственности, которого добивается автор, затрудняется тем обстоятельством, что структурная близость романа к экспериментальному методу Золя позволяет говорить о биологической, дегенеративной детерминированности зла, которое Достоевский намеревался представить как величину метафизическую. Это возвращает тексту семантическую неоднозначность, которую автор, создавая роман идей, сознательно хотел ограничить[435].
Уже Ирина Паперно указала на то, что романы Достоевского, устройством напоминающие эксперименты Золя, преследуют противоположную цель. Русский писатель стремится доказать несостоятельность позитивистских и материалистических положений, наглядно демонстрируя разрушительные последствия попрания этических запретов в мире, зараженном атеизмом[436]. При этом следует подчеркнуть внутрификциональное измерение эксперимента, чуждое большинству натуралистических романов. Достоевский не только экспериментирует с персонажами, но и позволяет им самим экспериментировать, т. е. разрабатывать умственные эксперименты и претворять их в жизнь.
«Братья Карамазовы» – ярчайший пример поэтики множественных внутрификциональных опытов, которые, не ограничиваясь уровнем мысленных экспериментов, таких как «Легенда о великом инквизиторе» Ивана Карамазова, еще и осуществляются на практике: так, гипотезу Ивана об оправданности убийства при условии, что Бога нет, эмпирически проверяет Смердяков. Отражением этих главных экспериментов служат более скромные опыты Коли Красоткина, выступающего своеобразным двойником Ивана. Во-первых, Коля ставит эксперимент над самим собой с целью доказать: «‹…› можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего»[437]. Во-вторых, он устраивает опыт с гусем и ломающей гусиную шею телегой, чтобы выяснить: «Если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед – перережет гусю шею колесом или нет?»[438] Удваивая свой эксперимент, проводимый в художественном мире, Достоевский стремится компенсировать главный недостаток литературного эксперимента – невозможность эмпирической верификации вне нарративной организации текста. Верность гипотезы подтверждается не только развитием действия, но и ex negativo, изображением краха основанных на «ложной» гипотезе эмпирических опытов, поставленных самими персонажами.
Литература и наследственность: интертекстуальностьДо сих пор литературоведы по большей части обходили вниманием возможность такой интерпретации «Братьев Карамазовых» в контексте французского натурализма, которая в первую очередь сосредоточивалась бы на проблеме наследственности. Поэтологические и идеологические различия между Достоевским и Золя казались слишком большими. Антропологическое мировоззрение первого, отстаивающего безусловную свободу воли и, следовательно, ответственность личности за свои дела, контрастирует с натуралистической депсихологизацией человека, сведением его природы к нервам, крови и инстинктам, вследствие чего понятия преступления и наказания приобретают относительный характер. Золя чужд занимающий Достоевского поиск ответов на метафизические вопросы, поскольку натурализм программным образом отказывается от метафизического вопроса о непосредственных причинах вещей – «почему» – в пользу вопроса «каким образом».
Стилистически Золя и Достоевский тоже разительно отличаются друг от друга. Сознательная фабульная редукция и дедраматизация в творчестве Золя, отдающего предпочтение малособытийному, монотонному повествованию, в рамках которого события нередко лишь повторяют предшествующие и заметная роль отводится описательности, плохо сочетается с поэтикой внезапности, нарративного coups de théâtre, представленной творчеством Достоевского. Столь же взаимно противоположны, с одной стороны, характерное для натурализма смешение голоса рассказчика с голосами персонажей в несобственно-прямой речи, значительно уменьшающее долю диалогов, и, с другой стороны, как раз основанная на диалогах повествовательная техника Достоевского.
Кроме того, эти поэтологические и идеологические различия подкрепляются взаимной критикой, подчас весьма резкой. Достоевский называет прозу Золя «гадостью»[439] и критикует пространность описаний, не имеющих необходимой причинно-следственной связи с событиями[440], а Золя в романе «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890) полемизирует с Достоевским, оспаривая возможность рассудочного убийства à la Раскольников. Убийство, утверждает Золя, совершается лишь в состоянии аффекта или под воздействием инстинктивных импульсов, которые, как в случае героя романа, Жака Лантье, зачастую имеют атавистическую, дегенеративную природу[441].
Единственным, кто исследовал интертекстуальные связи «Братьев Карамазовых» с циклом Золя, был Б. Г. Реизов[442]. Критика, которой подверг его точку зрения Г. М. Фридлендер, в целом характерна для позиции литературоведения, особенно советского, в вопросе о возможном влиянии Золя на Достоевского. Влияние это считалось немыслимым на том основании, что поэтика Достоевского вращается вокруг морально-психологических, а не физиологических проблем[443]. Более очевидным оно представлялось современной писателю критике, которая указывала на напоминающую о «Ругон-Маккарах» роль теории наследственности в создании характеров братьев Карамазовых[444]. В этом же русле написана работа психиатра В. Ф. Чижа о психопатологической стороне романов Достоевского. В соответствии с тогдашней теорией вырождения Чиж рассматривает наследственность как первопричину карамазовского «нравственного помешательства» (гл. IV.2). Наследование врожденной психической болезни, как в случае Смердякова, чья мать была «идиоткой», психиатр отличает от наследственной предрасположенности к безумию, как в случае Ивана, сына «кликуши»[445].
Наличие в «Братьях Карамазовых» мотива наследственности и тип письма, который можно назвать экспериментальным или же контрэкспериментальным, вписываются в контекст рассмотренной выше русской рецепции Золя в 1870‐х годах (гл. II.3 и III.1). Достоевский причастен к ней и как читатель: в каталоге его личной библиотеки упомянуты первые пять томов «Ругон-Маккаров»[446]. Показательно, что интертекстуальные отсылки, сигнализирующие о связи последнего романа Достоевского с циклом Золя, помещены в самом начале текста, в предыстории основного действия, которая, как и в первом томе «Ругон-Маккаров», знакомит читателей с происхождением семейной патологии. Болезненно гипертрофированное сладострастие – патологическая наследственность Федора Карамазова – вплотную приближается к «безудержности вожделений» (le débordement des appétits)[447], выступающей исходным характерным признаком всех Ругон-Маккаров. Первую «трещину» (fêlure) в биологической истории семьи, дающую начало последующим болезненным отклонениям, Золя отождествляет с нервной болезнью Аделаиды Фук, «прародительницы» Ругон-Маккаров. Произведя на свет Пьера от брака с батраком Ругоном и Урсулу с Антуаном от внебрачной связи с бандитом Маккаром, Аделаида создает почву для всего дальнейшего многообразия комбинаций и модификаций «семейного организма».
Без сомнения, Достоевский не случайно наделяет первую жену Федора Карамазова именем Аделаида. При этом структура карамазовского семейства словно бы перифразирует систему персонажей «Ругон-Маккаров», сохраняя ее основные элементы, однако расставляя их иным – или и вовсе противоположным – образом[448]. Корнем патологических отклонений здесь выступает не женщина, а мужчина – Федор Карамазов, а две его жены представляют собой как бы расщепленный надвое образ Аделаиды Фук. Первая, Аделаида Ивановна Миусова, является ее тезкой, а вторая, Софья Ивановна, страдает нервной болезнью, из‐за которой во время припадков теряет рассудок. Подобно мужу и любовнику Аделаиды Фук (первый породил Ругонов, законную линию нравственного помешательства, а второй – Маккаров, незаконную ветвь насилия и алкоголизма), две супруги Карамазова-старшего стоят у истоков дифференциации карамазовской наследственности.
«Горячность» и недюжинная физическая сила Аделаиды Миусовой, напоминающие здоровье и силу Ругона, проявляются в буйном характере Дмитрия, а истеричность и экзальтированный мистицизм Софьи Ивановны, соответствующие патологическому пьянству Маккара в наследственной конфигурации Золя, передаются обоим ее сыновьям. Алеша больше похож на мать, поэтому повторение отцовского богохульного поступка, некогда спровоцировавшего тяжелый нервный припадок у Софьи Ивановны, вызывает у него столь же патологическую реакцию[449]; наследственное нервное расстройство Ивана оканчивается нервной горячкой, которая едва не приводит к смерти. Мотив же незаконной, скандальной связи Достоевский переносит на третью женщину, умственно отсталую Лизавету Смердящую. В результате этого «сексуального эксперимента» Федора Карамазова рождается эпилептик Смердяков. Это неустановленное, неизменно отрицаемое самим Федором Павловичем биологическое отцовство обретает семиотический статус вследствие того обстоятельства, что Смердяков носит не только отчество Федорович, но и то же имя, что отец Карамазова-старшего, – Павел.
Разумеется, «Братья Карамазовы» отвечают не всем критериям романа о вырождении. Прежде всего, время романного действия не охватывает жизни нескольких поколений, что необходимо для изображения прогрессирующей деградации семейного организма во всей ее вариативности. Тем не менее налицо некоторые моменты начинающегося психофизического упадка Карамазовых, вполне соответствующие научному представлению о дегенерации как о биологической энтропии, в ходе которой отмеренная конкретной семье жизненная энергия постепенно расходуется и истощается[450]. Начинается этот биологический упадок уже с ослабления материнской наследственности: сначала здоровая и сильная Аделаида, затем нервнобольная Софья и, наконец, слабоумная Лизавета Смердящая. Физическая сила братьев тоже убывает от старшего Дмитрия к младшему Алеше. Это видно из сцены борьбы после того, как Дмитрий избивает Карамазова-старшего: «Иван Федорович, хоть не столь сильный, как брат Дмитрий, обхватил того руками и изо всей силы оторвал от старика. Алеша всею своею силенкой тоже помог ему, обхватив брата спереди»[451].