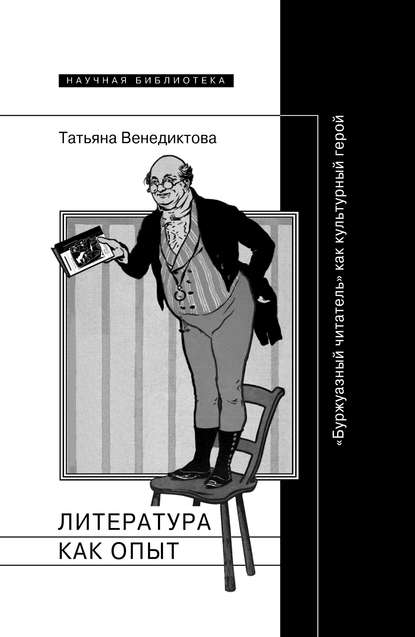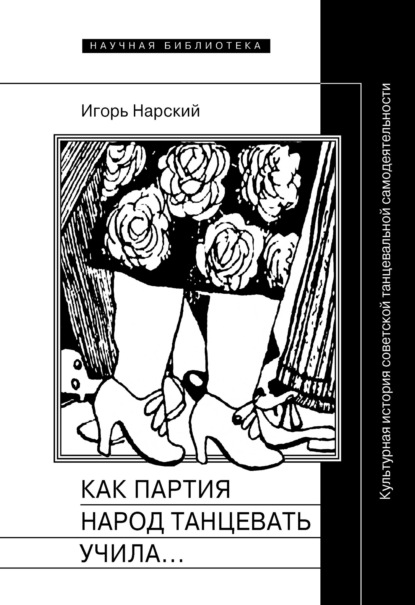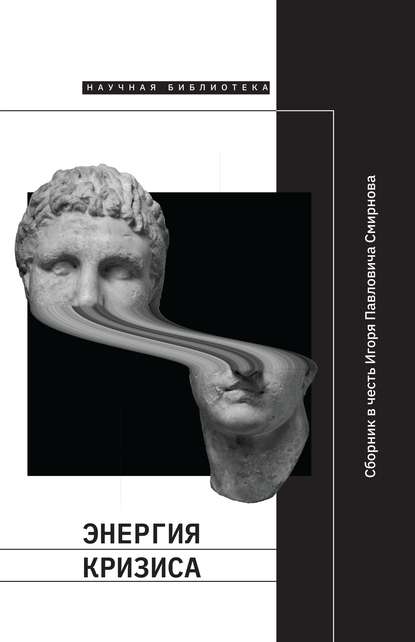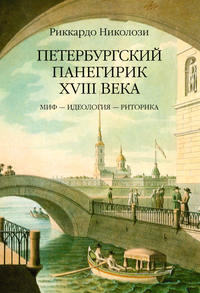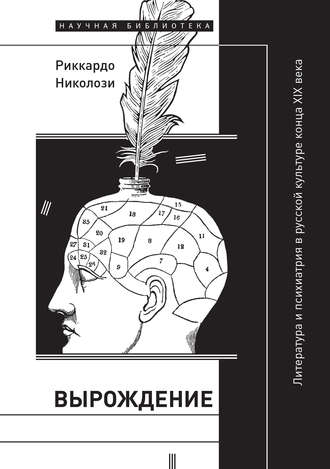
Полная версия
Вырождение
250
Примечательно, что Салтыков-Щедрин, в отличие от Достоевского, рассматривает роман с продолжением не как возможность создать напряжение, а как структуру, позволяющую варьировать один и тот же мотив.
251
Единственным примером дегенеративного процесса, принимающего несколько иной оборот, становится история Анниньки и Любиньки, племянниц Порфирия: бежавшие из Головлева сестры попадают в провинциальный театр, где влачат жалкое существование; впоследствии публичный позор скандального процесса толкает одну из них на самоубийство, а другую вынуждает вернуться в Головлево. Все это, однако, происходит за сценой и как будто умышленно контрастирует с «классическим» натурализмом, для которого характерно более напряженное действие. Это еще больше усиливает однообразную «будничность» головлевской деградации.
252
ГГ. С. 253.
253
«У головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было, ради гнилого запаха» (Там же. С. 44).
254
Вот как вспоминает Степан перед возвращением в Головлево о судьбах родственников, словно заранее наложивших отпечаток на его собственное будущее: «Вот дяденька Михаил Петрович (в просторечии „Мишка-буян“), который тоже принадлежал к числу „постылых“ и которого дедушка Петр Иваныч заточил к дочери в Головлево, где он жил в людской и ел из одной чашки с собакой Трезоркой. Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости жила в головлевской усадьбе у братца Владимира Михайлыча и которая умерла „от умеренности“, потому что Арина Петровна корила ее каждым куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемых для отопления ее комнаты» (Там же. С. 29).
255
«Тогда снарядили нового верхового и отправили его в Горюшкино к „сестрице“ Надежде Ивановне Галкиной (дочке тетеньки Варвары Михайловны), которая уже с прошлой осени зорко следила за всем, происходившим в Головлеве» (Там же. С. 262).
256
Ehre. A Classic of Russian Realism. P. 6–7.
257
«[Иудушка] молился не потому, что любил бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что бог избавит его от лукавого» (ГГ. С. 125).
258
Так, у смертного одра брата Павла он восклицает, подражая Иисусу: «Ну, брат, вставай! Бог милости прислал! ‹…› Встань да и побеги!» (Там же. С. 77). Сын Иудушки Петя рассказывает своей бабушке Арине Петровне о его беседе с попом, в которой отцовская мегаломания проявилась в гротескной форме: «Он намеднись недаром с попом поговаривал: а что, говорит, батюшка, если бы вавилонскую башню выстроить – много на это денег потребуется?» (Там же. С. 83).
259
Prichard J. C. A Treatise on Insanity and Other Disorders Affecting the Mind. London, 1835.
260
«‹…› человек, лишенный всякого нравственного мерила. ‹…› полная свобода от каких-либо нравственных ограничений ‹…›» (ГГ. С. 101, 104).
261
ГГ. С. 29.
262
Там же. С. 30.
263
Там же. С. 98.
264
Там же. С. 95.
265
Там же. С. 47.
266
ГГ. С. 31.
267
Там же. С. 96, 106.
268
Обзор разных определений интимности и близости см. в: Handbook of Closeness and Intimacy / Ed. by D. J. Mashek and A. Aron. Mahwah, 2004. P. 9–78.
269
О теории экспериментального романа Золя см. главу III.1 этой книги.
270
Золя Э. Тереза Ракен / Пер. c фр. Е. Гунста // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 5. Из сборника «Сказки Нинон». Исповедь Клода. Завет умершей. Тереза Ракен. М., 1960. С. 381–598. С. 382–383; при дальнейшем цитировании – ТР. («Dans Thérèse Raquin, j’ai voulu étudier des tempéraments et non des caractèreS. J’ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. ‹…› Les amours de mes deux héros sont le contentement d’un besoin; le meurtre qu’ils commettent est une conséquence de leur adultère, conséquence qu’ils acceptent comme les loups acceptent l’assassinat des moutons; enfin, ce que j’ai été obligé d’appeler leurs remords, consiste en un simple désordre organique, en une rébellion du système nerveux tendu à se rompre. L’âme est parfaitement absente, j’en conviens aisément, puisque je l’ai voulu ainsi. ‹…› Mon but a été un but scientifique avant tout. Lorsque mes deux personnages, Thérèse et Laurent, ont été créés, je me suis plu à me poser et à résoudre certains problèmes: ‹…› j’ai montré les troubles profonds d’une nature sanguine au contact d’une nature nerveuse. ‹…› J’ai simplement fait sur deux corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur des cadavres» (Zola É. Œuvres complètes / Éd. par H. Mitterand. Vol. 1. Paris, 1966. P. 519–520; при дальнейшем цитировании – THR).
271
«Сама природа и обстоятельства, казалось, создали эту женщину именно для этого мужчины и толкнули их друг другу в объятия. Нервная, лицемерная женщина и сангвинический мужчина, живущий чисто животной жизнью, составили тесно связанную чету. Они взаимно дополняли, поддерживали друг друга» (ТР. С. 429). («La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme, et les avoir poussés l’un vers l’autre. A eux deux, la femme, nerveuse et hypocrite, l’homme, sanguin et vivant en brute, ils faisaient un couple puissamment lié. Ils se complétaient, se protégeaient mutuellement» – THR. P. 553.)
272
«[N]écessaire, fatale, toute naturelle». THR. P. 546. Так говорит Лорану и Тереза: («‹…› какая-то роковая сила все время удерживала меня возле тебя, я с мучительным наслаждением дышала воздухом, которым дышал ты». ТР. С. 424. («Une force fatale me ramenait à ton côté, je respirais ton air avec des délices cruelles» – THR. P. 550.)
273
«Любовник привносил в их союз свою жизненную силу, любовница – нервы; так жили они один в другом, и объятия были им необходимы для бесперебойной биологической работы их организмов» (ТР. С. 517). («L’amant donnait de son sang, l’amante de ses nerfs, et ils vivaient l’un dans l’autre, ayant besoin de leurs baisers pour régulariser le mécanisme de leur être» – THR. P. 613.)
274
ТР. С. 421. («‹…› ce sang africain qui brûlait ses veines, se mit à couler, à battre furieusement dans son corps maigre, presque vierge encore» – THR. P. 548.)
275
ТР. С. 519. («On eût dit les accès d’une effrayante maladie, d’une sorte d’hystérie du meurtre. Le nom de maladie, d’affection nerveuse étaient réellement le seul qui convînt aux épouvantes de Laurent» – THR. P. 614.)
276
Традиционные элементы романтической фантастики, такие как «возвращение» мертвого Камилла или непрекращающееся жжение раны на шее Лорана, укушенного Камиллом в предсмертной борьбе, рассказчик однозначно трактует как «естественные» проявления нервного истощения, которое и вызывает подобные галлюцинации. Тем самым любые формы «колебания», составляющего, по мнению Цветана Тодорова (Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М., 1999), суть фантастической литературы, исключаются изначально.
277
«Когда Тереза в первый раз вошла в лавку, где ей отныне предстояло проводить дни, ей показалось, будто она спускается в сырую могилу» (ТР. С. 403). («Quand Thérèse entra dans la boutique où elle allait vivre désormais, il lui sembla qu’elle descendait dans la terre grasse d’une fosse» – THR. P. 534.)
278
ТР. С. 591. («Ils étaient de nouveau dans le logement sombre et humide du passage, ils y étaient comme emprisonnés désormais ‹…›» – THR. P. 663.)
279
ТР. C. 560. («Alors, comme deux ennemis qu’on aurait attachés ensemble et qui feraient de vains efforts pour se soustraire à cet embrassement forcé, ils tendaient leurs muscles et leurs nerf, ils se roidissaient sans parvenir à se délivrer. Puis, comprenant que jamais ils n’échapperaient à leur étreinte, irrités par les cordes qui leur coupaient la chair, écœurer de leur contact, sentant à chaque heure croître leur malaise, oubliant qu’ils s’étaient eux-mêmes liés l’un à l’autre, et ne pouvant supporter leurs liens un instant de plus, ils s’adressaient des reproches sanglants, ils essayaient de souffrir moins, de panser les blessures qu’ils se faisaient, en s’injuriant, en s’étourdissant de leurs cris et de leurs accusations» – THR. P. 641.)
280
ТР. С. 524.
281
ТР. С. 522. («Lorsque les deux meurtriers étaient allongés sous le même drap et qu’ils fermaient les yeux, ils croyaient sentir le corps humide de leur victime, couché au milieu du lit, qui leur glaçait la chair… ‹…› La fièvre, le délire les prenait, et cet obstacle devenait matériel pour eux; ils touchaient le corps, ils le voyaient étalé, pareil à un lambeau verdâtre et dissous, ils respiraient l’odeur infecte de ce tas de pourriture humaine; tous leurs sens s’hallucinaient, donnant une acuité intolérable à leurs sensations ‹…›» – THR. P. 616.)
282
ТР. С. 533. («Quand l’intelligence aurait abandonné l’ancienne mercière, et qu’elle resterait muette et roidie au fond de son fauteuil, ils se trouveraient seuls; le soir, ils ne pourraient plus échapper à un tête-à-tête redoutable. Alors leur épouvante commencerait à six heures, au lieu de commencer à minuit; ils en deviendraient fous» – THR. P. 624.)
283
Лоран поначалу ищет утешения в искусстве: он снимает мастерскую, где можно проводить день в одиночестве. И хотя отношения с Терезой изменили его нервную систему, обострили его чувства, вследствие чего заметно улучшилась и его примитивная, грубая живописная манера, эта попытка тоже терпит неудачу. Портреты, которые он пишет, напоминают труп Камилла, виденный Лораном в парижском морге.
284
ТР. С. 590–591. («Dès que Laurent eut de l’or dans ses poches, il se grisa, fréquenta les filles, se traîna au milieu d’une vie bruyante et affolée. ‹…› Mais il ne réussit qu’à s’affaisser davantage. ‹…› Pendant un mois, elle [Thérèse] vécut, comme Laurent, sur les trottoirs, dans les cafés. ‹…› Puis elle eut des dégoûts profonds, elle sentit que le vice ne lui réussissait pas plus que la comédie du remordS. ‹…› Elle fut prise d’une paresse désespérée qui la retint au logis, en jupon malpropre, dépeignée, la figure et les mains saleS. ‹…› Ils étaient de nouveau dans le logement sombre et humide du passage, ils y étaient comme emprisonnés désormais, car souvent ils avaient tenté le salut, et jamais ils n’avaient pu briser le lien sanglant qui les liait» – THR. P. 663.)
285
Порфирий несколько раз упоминает жену, скончавшуюся в Петербурге; корнет Уланов, с которым сбежала Анна Владимировна – мать Анниньки и Любиньки, упомянут лишь в первой главе.
286
ГГ. С. 31.
287
Анализ библейского контекста романа остается дезидератом щедриноведения. О библейских мотивах, связанных с образом Иудушки, см. работу Г. Ф. Самосюк – впрочем, далеко не исчерпывающую: Самосюк Г. Ф. Библеизмы в структуре образа Иудушки Головлева // Литературоведение и журналистика. Саратов, 2000. С. 91–202.
288
Kramer. Satiric Form in Saltykov’s «Gospoda Golovlevy». P. 458.
289
ГГ. С. 21.
290
Там же. С. 39.
291
«Кому темненько да холодненько, а нам и светлехонько, и теплехонько. Сидим да чаек попиваем. И с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с ромцом, и с ромцом будем пить» (ГГ. С. 108).
292
Там же. С. 50. Отношения между Порфирием и его сыном Петей тоже существуют – в буквальном смысле – лишь на бумаге: «Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми: совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном ‹…›» (Там же. С. 116).
293
«Не простое пустословие это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила из себя гной» (Там же. С. 174).
294
Там же. С. 79.
295
Там же. С. 88–93.
296
Там же. С. 164.
297
Щукин В. Г. Усадебный текст русской литературы // Щукин В. Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М., 2007. С. 316–337.
298
ГГ. С. 107.
299
ГГ. С. 112–113.
300
О традиции русского сатирического романа см.: Peters J.-U. Tendenz und Verfremdung. Studien zum Funktionswandel des russischen satirischen Romans im 19. und 20. Jahrhundert. Bern u. a., 2000.
301
Draitser E. A. Techniques of Satire: The Case of Saltykov-Ščedrin. Berlin; New York, 1994. P. 45–100.
302
Отсутствие альтернативы описываемой чудовищности русской жизни дало критикам – в частности, Дмитрию Писареву («Цветы невинного юмора», 1864) – повод упрекать щедринские произведения в аполитичности, в высмеивании действительности ради самого смеха.
303
ГГ. С. 101–104.
304
Головин. Русский роман. С. 267.
305
Во всем тексте встречается лишь один явный намек на помещичий паразитизм как одно из вопиющих следствий привилегированного социального положения: «Порфирий Владимирыч ‹…› вдруг как-то понял, что, несмотря на то, что с утра до вечера изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни чистого белья, ни исправного платья, если б не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтоб его домашний обиход не прерывался» (ГГ. С. 213).
306
«В настоящее время существуют три общественные основы, за непотрясанием которых имеется особое наблюдение: семейство, собственность и государство» (ГГ. С. 510).
307
Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений. Т. 6. С. 381–406.
308
Там же. С. 391.
309
Там же. Т. 13. С. 424; Т. 6. С. 388.
310
«Призрак» Щедрин определяет так: «Что такое призрак? ‹…› это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту» (Там же. С. 382).
311
Так, сын Порфирия заявляет отцу: «У вас ведь каждое слово десять значений имеет; пойди угадывай!» (ГГ. С. 132).
312
Там же. С. 119. (Курсив оригинала.)
313
Там же. С. 67, 190. Кривонос В. Ш. Архетипические образы и мотивы в романе Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» // Щедринский сборник. Статьи. Публикации. Библиография. Тверь, 2001. С. 77–90.
314
ГГ. С. 77.
315
ГГ. С. 66–67.
316
Там же. С. 215, 217, 228.
317
Там же. С. 208–209.
318
ГГ. С. 29.
319
Там же. С. 66, 68.
320
Там же. С. 134.
321
Там же. С. 256.
322
Там же. С. 260.
323
Schmid W. Ereignishaftigkeit in den «Brüdern Karamasow» // Dostoevsky Studies. New Series. 2005. № 9. P. 31–44. P. 33. Ср., в частности, озарения Константина Левина и Пьера Безухова, внезапно постигающих смысл жизни, или «воскресение» Родиона Раскольникова.
324
Заключительный эпизод выглядит уступкой (оправданной, быть может, в идейном, однако не в структурном отношении) событийности реализма. Подчеркнутая неуместность такой уступки объясняется чужеродностью категории события для этого текста. Развязку истории не раз называли неправдоподобной (Арсеньев. Салтыков-Щедрин. С. 197).
325
Schmid W. Čechovs problematische Ereignisse // Schmid W. Ornamentales Erzählen in der russischen Moderne. Čechov – Babel’ – Zamjatin. Frankfurt a. M., 1992. S. 104–134.
326
О нарратологических критериях событийности см.: Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 11–13.
327
ГГ. С. 257.
328
Там же. С. 260.
329
Картины умирания в «Господах Головлевых» составляют повествовательную и антропологическую противоположность реалистическим сценам смерти в творчестве Льва Толстого. Так, повесть «Смерть Ивана Ильича» (1886) диаметрально противоположна роману о вырождении. Хотя в ней тоже изображается длящийся процесс умирания, смерть мыслится апофеозом жизни, моментом максимальной событийности вследствие радикального «прозрения», пережитого героем.
330
Merten S. Die Entstehung des Realismus aus der Poetik der Medizin. Die russische Literatur der 40er bis 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Wiesbaden, 2003.
331
Первая публикация (сентябрь 1879 года) статьи об экспериментальном романе состоялась на русском языке в рамках публицистического цикла Золя «Парижские письма», ежемесячно выходившего в петербургском литературно-политическом журнале «Вестник Европы» (Зола Э. Экспериментальный роман // Вестник Европы. 1879. № 9. С. 406–438. Французский оригинал увидел свет в октябре 1879 года на страницах парижского журнала «Le Voltaire»). В 1880 году Золя выпустил сборник работ по теории литературы, куда включил и этот текст.
332
Экспериментальная поэтика Золя становилась и объектом литературных пародий. Ср., в частности, произведение Марка Монье «Сбитый с толку. Экспериментальный роман» («Un détraqué. Roman expérimental», 1883). См. об этом: Guermès S. Le mystérieux M. de Saint-Médan // Les Cahiers Naturalistes. 2006. № 80. P. 253–267.
333
«Der Begriff des Romans schließt von vornherein den Begriff des Experiments aus. Dieses hat mit Tatsachen, jener hat mit Einbildung zu tun. Zola glaubt, ein Experiment gemacht zu haben, wenn er nervenkranke Personen erdichtet, diese in erdichtete Verhältnisse stellt und sie erdichtete Handlungen vollführen lässt. Das ist aber ebenso wenig ein neuropathologisches Experiment, wie ein lyrisches Gedicht ein biologisches Experiment ist. Ein naturwissenschaftlicher Versuch ist eine an die Natur gerichtete Frage, auf welche die Natur, nicht der Frager selbst, die Antwort geben soll. Zola stellt ebenfalls Fragen, das gebe ich zu; aber an wen? An die Natur? Nein, an seine eigene Einbildungskraft. Hierin liegt der Unterschied zwischen Zola und dem Naturforscher, ein Unterschied, der so groß ist, dass er komisch wirkt». Nordau M. Zola und der Naturalismus // Nordau M. Paris unter der dritten Republik. Leipzig, 1890. S. 146–175. S. 170. Отметим представление о природе, якобы дающей исследователю ответы в ходе эксперимента: по видимости наивное, однако в то время широко распространенное.
334
Ср. также оценку Арно Хольца, назвавшего экспериментальный роман теоретической «нелепостью»: Holz A. Das Werk von Arno Holz. Bd. 10: Die neue Wortkunst. Eine Zusammenfassung ihrer ersten grundlegenden Dokumente. Berlin, 1925. S. 59.
335
Lepenies W. Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. München; Wien, 1976. S. 126. Ср. также: Lepenies W. Transformation and Storage of Scientific Traditions in Literature // Literature and History / Hg. von L. Schulze u. a. Lanham; London, 1983. S. 37–63. S. 41; Rothfield L. Vital Signs: Medical Realism in Nineteenth-Century Fiction. Princeton, 1994. S. 125–126.
336
Gumbrecht H. U. Zola im historischen Kontext. Für eine neue Lektüre des Rougon-Macquart-Zyklus. München, 1978. S. 39–46; Kolkenbrock-Netz J. Fabrikation – Experiment – Schöpfung. Strategien ästhetischer Legitimation im Naturalismus. Heidelberg, 1981. S. 193–217; Albers I. Sehen und Wissen. Das Photographische im Romanwerk Émile Zolas. München, 2002. S. 189–225; Gamper M. Normalisierung/Denormalisierung, experimentell. Literarische Bevölkerungsregulierung bei Emile Zola // Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. Jahrhundert / Hg. von M. Krause und N. Pethes. Würzburg, 2005. S. 149–168.
337
Zola É. Le roman expérimental // Zola É. Œuvres complètes / Éd. par H. Mitterand. Vol. 10. Paris, 1968. P. 1173–1203. P. 1182, 1188; Золя Э. Экспериментальный роман / Пер. c фр. Н. Немчиновой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 24. Из сборников «Что мне ненавистно», «Экспериментальный роман». М., 1966. С. 239–280. С. 251, 258.
338
Gamper. Normalisierung/Denormalisierung. S. 152; Höfner E. Zola – und kein Ende? Überlegungen zur Relation von Wissenschaft und Literatur. Der roman expérimental und der Hypothesen-Streit im 19. Jahrhundert // Literatur, Wissenschaft und Wissen seit der Epochenschwelle um 1800. Theorie – Epistemologie – komparatistische Fallstudien / Hg. von Th. Klinkert und M. Neuhofer. Berlin; New York, 2008. S. 127–166.
339
Золя. Экспериментальный роман. С. 243–244. («L’observateur constate purement et simplement les phénomènes qu’il a sous les yeux… Il doit être le photographe des phénomènes. ‹…› Mais une fois le fait constaté et le phénomène bien observé, l’idée arrive, le raisonnement intervient, et l’expérimentateur apparaît pour interpréter le phénomène. L’expérimentateur est celui qui, en vertu d’une interprétation plus ou moins probable, mais anticipée, des phénomènes observés, institue l’expérience de manière que, dans l’ordre logique des prévisions, elle fournisse un résultat qui serve de contrôle à l’hypothèse ou à l’idée préconçue» – Zola. Le roman expérimental. P. 1178.)
340
Zola. Le roman expérimental. P. 1178, 1180; Золя. Экспериментальный роман. С. 243, 247.
341
Weigel S. Das Gedankenexperiment: Nagelprobe auf die facultas fingendi in Wissenschaft und Literatur // Science & Fiction. Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur / Hg. von Th. Macho u. a. Frankfurt a. M., 2004. S. 183–205. S. (здесь) 185.
342
Золя. Экспериментальный роман. С. 244. («[L]e romancier est fait d’un observateur et d’un expérimentateur. L’observateur chez lui donne les faits tels qu’il les a observés, pose le point de départ, établit le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se développer les phénomènes. Puis l’expérimentateur paraît et institue l’expérience, je veux dire fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y montrer que la succession des faits y sera telle que l’exige de le déterminisme des phénomènes mis à l’étude» – Zola. Le roman expérimental. P. 1178.)