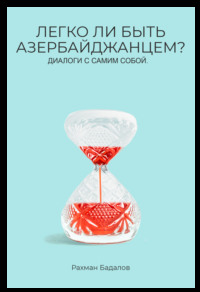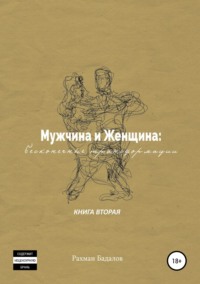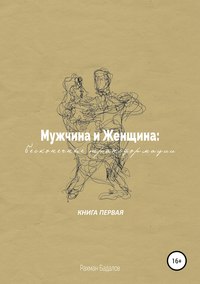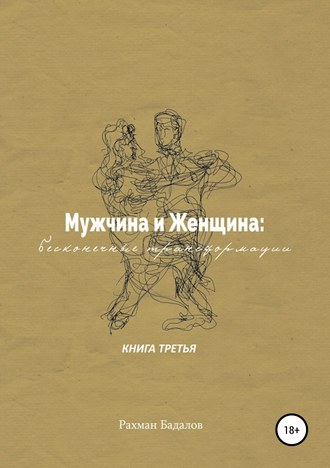 полная версия
полная версияМужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга третья
Может быть, спектакль так и назвать:
«Ибн Салам: Господин Чувствительный Мужчина».
Спектакль о том, как «Господин Чувствительный Мужчина», добавим, нормальный, деликатный мужчина, оказался среди двух Одержимых, и не сразу понял, что у него недостаточно сил, чтобы с ними справиться. И любовь к женщине, которая стала Одержимой, оказалась безуспешной.
Уже Борхес[227] говорил, что классика на то и классика, чтобы изменяться во времени.
«Лейли и Меджнун», несомненно, классический сюжет и способен изменяться во времени. Причём версии сюжета могут быть не только трагическими, но и комическими.
На комическую версию у меня фантазии не хватило.
…Физули, «Лейли и Меджнун»: Лейли, попытка не суфийской интерпретации
Отдаю себе отчёт, что говорить о поэме Физули на основе перевода, вне системы образов, не принимая во внимание суфийскую[228] философию, недопустимое упрощение. Но я и не претендую на адекватное прочтение поэмы, достаточно сказать, что включаю эти заметки не в основной текст, а в «Дневник». Моя цель более скромная. Если классика на то и классика, чтобы меняться во времени, то меняться во времени должна и поэма Физули «Лейли и Меджнун». Если можно допустить пьесу «Ибн-Салам», почему нельзя допустить пьесу «Лейли». Если согласиться с тем, что пластическим и философским выражением позиции самого Физули является образ Меджнуна, так что правомерно назвать поэму «Меджнун», то почему нельзя развивать поэму и в направлении образа Лейли, и в направлении образа Ибн-Салама.
Не повторяя то, что говорилось в сюжете «Лейли-девственница», помещённого в пятом разделе, остановлюсь на некоторых эпизодах из поэмы Физули, которые и дают основание для предполагаемой пьесы «Лейли».
Начнём с такого эпизода. В школе, в которой учатся Гейс и Лейли, Гейс столь откровенно выражает свою любовь к Лейли, что все его называют Меджнуном (Одержимым), и молва доходит до матери Лейли. Естественно, она не может не вмешаться и начинает отчитывать Лейли:
«Ах, сколько сплетен о тебе, бесстыдной. Ужель не слышишь клеветы обидной? Зачем себе же причиняешь вред, Чтоб доброй славы стёрся всякий след? Я слышу о тебе дурные вести – От них ущерб твоей и нашей чести. Нежней ты розового лепестка, Но только слишком разумом легка. Не нужно, как стекло, быть острой, твёрдой, И как нарцисс, быть хмурою и гордой. Скрывай лицо, хоть ты и хороша, Как скрыта в тебе чистая душа. Не кукла ты – зачем тебе наряд? Ты не окно. Пусть скромным будет взгляд. Как чаша круговая, не кружись ты, И, как напев под ладом хоронись ты. Во все углы, как тень, ты не гляди, Не стой с чужими, с ними не сиди. Ты простодушна, все вокруг – лукавы, Не стала б жертвой ты недоброй славы… Тебе любовь и вздохи не пристали. И не к лицу любовные печали… Юнец влюблённый нас не удивит, Но девушке любить – позор и стыд. Как мы теперь в глаза посмотрим людям? Сама подумай, чем гордиться будем? Я на тебя руки не подниму, – Но что отцу скажу я твоему? Что о таких делах отец твой скажет? Он, гневом распаляясь, тебя накажет… Про школьных и не вспоминай друзей, Есть кукла у тебя – дружи ты с ней. Будь, словно кукла, домоседкой вечной, Ужель тебя прельщает первый встречный? Блажен, кто дома дочку бережёт. Не знать ему мучительных забот».
Можно долго комментировать слова матери Лейли, рассуждать о том, что время в наших краях будто остановилось, – одни слова «девушке любить – позор и стыд», «будь, словно кукла, домоседкой вечной», говорят о многом, можно взять их эпиграфом к предполагаемой пьесе «Лейли» – но не будем отвлекаться.
Что же Лейли? Как она себя повела? Возмутилась? Испугалась? Подчинилась?
Послушаем Физули:
«Лейли, услышав матери упрёки, Решила в сердце: «Чародей жестокий, Судьба вершительница злобных дел, Нелёгкий начертала мне удел. Разлукою сменились дни свиданья, Мне суждено сгореть в огне страданья!» Что сделать, что сказать могла она? Ведь хитростью была она бедна… Но всё же решила проявить упорство: «Прибегну, – мыслит, – к помощи притворства».
Ясно, что перечить матери Лейли не могла, другие времена, другие нравы, но и смириться не хотела. Ничего удивительного, как может смириться живая, влюблённая девушка, если она действительно живая, и действительно влюблённая. Какой бы простодушной Лейли не была, она понимает, что самое страшное, если ей больше не позволят ходить в школу, и она не сможет больше видится с любимым. Она прибегает к лукавству, даже к хитрости, и какой нормальный (психически нормальный) человек бросит в неё камень.
Итак, Лейли отвечает матери:
«Она сказала, очи опустив: «О мать, подруга дней моих мгновенных, О мать, ларец богатств моих нетленных! Мне эти все неведомы слова, И речь твоя понятна мне едва. С ребёнком, глупым и неискушённым, Ты говоришь о юноше влюблённом. Мне неизвестно, что произошло И что меня коснуться бы могло. Я о любви ни с кем не говорила, Лишь ты о ней мне кое-что открыла. Что за любовь, скажи, в ней смысл какой, Скорее тайну до конца раскрой! О, будь моей звездою путеводной, Чтоб больше мне не мучиться бесплодно. Учусь не самовольно в школе я, Твоей не преступила воли я. То в школу мне велишь ходить, стараться, То школы мне велишь остерегаться. Какое же мне слово повторять? Чему скажи, должна я доверять?.. Подобных слов не повторяй, прошу! И мне, несчастной, доверяй, прошу!».
Как могла мать Лейли не поверить таким словам своей дочери. А нам, если есть у нас воображение, остаётся представить эту юную леди, которая с ангельским личиком, мягко говоря, вводит мать в заблуждение. Но вновь повторю, можно улыбнуться тираде Лейли, – сама наивность, действительно, что может знать наша Лейли о любви, если не то, что открыла ей мать? – только не впадать в морализирование. Не исключено, что и сам поэт печали и страданий Физули, позволил себе улыбнуться, когда писал эти строки…
Следующий эпизод о котором говорилось в сюжете «Лейли-девственница» из пятого раздела, остаётся только напомнить.
Лейли выдали замуж за Ибн-Салама, естественно, без её согласия. Помощи ждать было не откуда, жаловаться некому, и даже если «хитростью она была бедна», она обязана была проявить изворотливость, чтобы не разделить ложе с нелюбимым человеком. Она и придумывает джинна (наверно, который вселился в Гейса), который её преследует, и которого должен остерегаться сам Ибн-Салам…
Следующий эпизод. Друг Меджнуна Зейд навещает его в пустыне и помогает влюблённым обмениваться вестями друг о друге. И Лейли просит Зейда передать Меджнуну её слова:
«Я – что бутон, уста мои закрыты, Кровь бьёт из сердца. Нет нигде защиты. А ты в стране свободы, царь царей, Свободно выбираешь ты друзей. Вслед за рукой, ты как перо, не ходишь, И где душе угодно, там и бродишь».
И далее,
«…как ни тяжела бывает скорбь, – Терпи, спины в отчаянье не горбь.»
Возможно, преувеличиваю, попадаю в плен собственной концепции, но мне видится юноша, мужчина, который говорит только о своих страданиях, и мучается только над тем, верна ему возлюбленная или нет. Типичный случай, вплоть до наших дней.
И видится девушка, женщина, которая беспокоится только о том, как живётся её возлюбленному, при этом находит в себе силы, чтобы поддержать его («спины не горбь»). И вновь, как мне представляется, случай вполне типичный, вплоть до наших дней.
Даже если я не прав, думаю, в пьесе «Лейли» подобная степень фантазии вполне допустима…
Следующий эпизод. Ибн-Салам не выдержал своего тягостного положения (задумайтесь, кому в поэме «Лейли и Меджнун» тягостнее, чем Ибн-Саламу) и умер. Лейли отправилась с караваном в пустыню, со скрытым намерением встретиться там с Меджнуном и соединить с ним свою судьбу. Ей удаётся разыскать его, и она обращается к нему со следующими словами:
«Ты к цели издалека пробивался – С тобою та, по ком ты стосковался. Ты счастлив: всё твоё, чего хотел. Перед тобой твоей мечты предел. Ведь я Лейли – души твоей желанье, Больного сердца вечное терзанье. Мою желал ты видеть красоту, Желал увидеть ты свою мечту. Теперь с тобой мы вместе, друг прекрасный, Зачем же мешкать будешь ты напрасно? Свиданье нам дано благой судьбой, Иди ко мне – ведь счастье пред тобой И сердце я отдам с любовью жаркой, Я душу сохранила для подарка. Спеши – не упускай судьбы. Смотри, Мои дары скорее забери! Ты болен? Так во мне врача ты встретишь! Влюблён? Во мне любимую приветишь! Пусть наша встреча будет счастья пир, С тобою мы забудем целый мир…»
Так что же Меджнун, ответил на призыв Лейли? Согласился с Лейли, бросился к ней. Нет для Физули-Меджнуна-суфия – это слишком просто, влюблённая женщина для него не просто земное существо, а отсвет потустороннего, божественного. Не будем иронизировать, суфизм одно из величайших прозрений человечества, но, во-первых, настоящая книга далеко не суфийская, а во-вторых, мы говорим о пьесе «Лейли», которая может позволить себе не придерживаться суфийского мировоззрения поэмы.
Меджнун в поэме отвечает на призывы Лейли следующими словами:
«…Когда ещё не гаснул светоч ока, От взоров убежала ты жестоко. Теперь, когда я к слепоте привык, Зачем стоит передо мной твой лик? С тобой мы цепью связаны любовной, Друзьями стали мы не суесловно. Но я отныне внешним не влеком, С томленьем этим больше не знаком… Теперь, Лейли, душой моей ты стала, И кровью и огнём очей ты стала. Ты ближе стала мне, чем был я сам. Ты вся во мне. Кому тебя отдам? Я стал тобой, теперь мне это ясно, Коль ты Лейли, то кто же я, несчастный? И если я с тобой един вполне, То истина повелевает мне Считать, что я твоей души хранитель И для тебя бессменная обитель… Себе желать моей судьбы – напрасно. В Меджнуна превратиться ты не властна!.. «Меджнун» – ведь стало именем моим. Ведь я один на свете одержим. А ты себя не подвергай нападкам И не учись моим дурным повадкам. Лишь я – Меджнун, любимая моя, Меджнунства удостоин только я! Себе желать моей судьбы напрасно. В Меджнуна превратиться ты не властна».
Разве он не прав, если он стал Лейли, то кто эта женщина, которая стоит перед ним, и зачем она ему. Что до того, чтобы этой женщине стать Меджнуном, то это ноша не для Лейли, – если вообще для женщины, она им не по плечу.
А что Лейли? Возмущается? Открыто выражает своё разочарование? Ведь она пожертвовала жизнью ради Меджнуна и вот результат? Как ей теперь прожить остаток жизни?
Нет, Лейли не жалуется, она даже благодарит судьбу, что она подарила ей встречу с Гейсом-Меджнуном:
«Мне в горе счастие доставил ты, И от забот меня избавил ты. Беспечной я была самовлюблённой, Невежеством глубоким опьянённой. О красоте заботилась кудрей, О родинке заботилась своей. Но на меня ты не бросаешь взгляда, – Тогда какая в красоте отрада? Когда любимый зреть мой лик не жаждет, Пусть лик от взоров, чуждый мне, не страждет. Ведь лик мой нужен только для того, чтоб мог любимый созерцать его».
Мне трудно сказать, чувствовал ли себя суфием Физули, когда писал эти строки, но, несомненно, слова Лейли можно объяснить и вне суфийского канона. Это слова женщины, живой, любившей, любящей, способной к самопожертвованию, способной к состраданью к мукам любимого человека, и менее всего заботящейся о своей судьбе и о собственной выгоде.
А я задумываюсь о кастинге на предполагаемую роль Лейли, перебираю в памяти различных актрис и не только в Азербайджане, и думаю, что они не обязательно должны быть прекраснолицыми и луноокими, они могут быть разными, главное молодыми, и они должны уметь играть не только страдание и самоотверженность, а всю гамму чувств молодой, влюблённой девушки от шаловливости и озорства, до недовольства и гнева.
И последнее. Предполагаемая пьеса «Лейли», как и пьеса «Ибн-Салам» может быть комедийной, по крайней мере, ироничной, печально-ироничной.
…слепой подполковник, который бросает вызов самому господу Богу
Эпизод из этого фильма запомнил на всю жизнь. Он продолжает прорастать во мне, не вмещаясь ни в какие теоретические схемы.
Фильм «Запах женщины»[229],
…как уточнил один из критиков, боле точное название, как в оригинале, «Аромат женщины»…
в главной роли слепого подполковника, Аль Пачино[230].
Об этом фильме пишу в завершении дневника, потому что он не вмещается в концепцию книгу и даже, отчасти, её разрушает.
Слепого подполковника следует отнести к поколению «после Большой войны», но его никак не отнесёшь к «потерянному поколению». Он ослеп, но не сломлен. Он готов умереть, готов застрелиться, только не стать жалким, только не потерять свою мужскую осанку.
Его можно назвать романтиком, но без особых иллюзий, без особого упования, скорее, печальным романтиком.
Он философ, он считает, что и у Бога есть чувство юмора, вот и следует избегать излишней глубокомысленности и мрачной серьёзности. Разве не смешно на что-то надеяться и чего-то бояться в преддверии смерти.
И если у Бога действительно есть чувство юмора, он, господь Бог, оценит, что слепой подполковник бросает вызов и Ему, ведь чувство юмора, если оно действительно чувство юмора, не приемлет никакую инстанцию, над которой запрещено смеяться.
Слепой подполковник собирается отправиться в Нью-Йорк, чтобы напоследок не скиснуть, не растерять чувство юмора, выпить покрепче, и станцевать своё последнее танго с женщиной, с женщиной. И если не увидеть её, то ощутить её тело своим прикосновением и впитать в себя её аромат.
Он мужчина в чём-то очень главном, сутевом, никаких полутонов, никаких взаимопереходов, он мужчина, и у него одна только страсть, может быть, от неё все его беды, но – уже без «может быть» – это и есть его главный инстинкт жизни, он вёл его по жизни, он не даст ему сломаться в конце жизни, когда он стар и слеп.
Он мужчина и его главная страсть – женщина.
Он мужчина, он жив, и у него остались силы станцевать своё последнее танго с женщиной.
Последнее танго с женщиной слепого подполковника и есть эпизод фильма, который включаю в «Дневник» и испытываю радость, что слепой подполковник смеётся над моими потугами долго и нудно разъяснять свою концепцию, хотя при этом, надеюсь, что слепой подполковник не спалит её дотла.
Остаётся сказать, что слепого подполковника играет Аль Пачино, который в этом эпизоде превосходит сам себя, хотя и без этого эпизода, Аль Пачино, на мой взгляд, один из лучших актёров мирового кино.
…возможен ли брак на всю жизнь?
Вопрос риторический. Стоит оглянуться вокруг, чтобы убедиться, многие люди живут в браке долго и счастливо.
А если взять только художников? Богемная жизнь, натурщицы, пьянки, оргии. В такой среде брак на всю жизнь покажется маловероятным.
А если взять не просто художников, а художников-сюрреалистов? Ещё менее вероятно. Эксцентричное творчество предполагает эксцентричную жизнь. А это для брака противопоказано.
Но, как и во всём другом, случаются исключения.
Бельгийский художник Магритт Рене[231], использовал в своих картинах, обычные, повседневные образы – деревья, окна, двери, фигуры людей. Но его картины не менее абсурдны и загадочны, чем работы его эксцентричных коллег-художников.
Достаточно вспомнить его загадочного господина в пальто и шляпе-котелке, который постоянно находится к нам спиной. Или не менее загадочных «Влюблённых», у которых лица повязаны платком, так что не видно лиц. Действительно, таинственны и загадочны, или художник откровенно над нами издевается.
Но вспомнил Магритта совсем не по этой причине.
Ему было 15 лет, когда он встретил Жоржетту Бергер[232], которой было 13. Их потянуло друг к другу, но они вынуждены были расстаться. Он стал заниматься живописью, чтобы как-то сгладить разлуку.
Ему было 24 года, когда он вновь встретил Жоржетту Бергер, который в это время было 22 года. Они решили пожениться и никогда больше не расставаться.
Жоржетта Бергер стала единственной моделью Рене Магритта.
Они прожили вместе 45 лет, до самой кончины художника. Никогда не расставались.
Если эксцентрика это то, что резко выделяется из общего ряда, то брак с Жоржеттой Бергер, самый эксцентричный из поступков Рене Магритта.
Особенно в среде художников-сюрреалистов.
…женщины, которых научили говорить
Продолжаю поворот в направлении, отличном от сквозной темы книги. Ирония женщины тонкой, умной, совсем не сентиментальной, в адрес женщин, которые говорливы, но о подлинно высоком ничего путного сказать не в состоянии.
Эпиграмма русской поэтессы Анны Ахматовой[233], говорит сама за себя, и не требует особых комментариев.
Могла ли Биче[234], словно Дант[235], творитьИли Лаура[236] жар любви восславить?Я научила женщин говорить…Но, Боже, как их замолчать заставить!…может ли женщина быть стервой?
На тему женоненавистничества можно написать не одну книгу и составить не одну хрестоматию. Ограничусь коротким перечнем, ни на что не претендующим, просто для разрядки. Или для улыбки.
Римский сатирик Ювенал[237], если судить по его 6-й сатире (самой большой по объёму из всех его сатир – 661 стих), был страстным женоненавистником и врагом брака.
Вот два его афоризма:
«Никогда ни одна женщина не скажет «хватит», никогда! Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине».
«Не рассуждай с детьми, с женщинами и с народом».
Время было такое, или Ювеналу не повезло с женщинами.
Или не повезло с детьми и с народом.
Мятущийся Гамлет вечно напоминает нам о прогнившем датском королевстве. А мир самого датского принца начал стремительно разрушаться, когда он безуспешно пытался понять:
«О женщины, вам имя – вероломство! Нет месяца! И целы башмаки, в которых гроб отца сопровождала, вся в слезах…»
Когда герой рассказа А. Чехова[238] «Ариадна» в отчаянии признаётся: «едва мы женимся или сходимся с женщиной, проходит каких-нибудь два-три года, как мы уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми; сходимся с другими, и опять разочарование, опять ужас, и, в конце концов, убеждаемся, что женщины лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки, – одним словом, не только не выше, но даже несоизмеримо ниже нас мужчин», мы понимаем, что сам писатель осторожно выглядывает из-за спины своего персонажа, и делится с нами своим личным опытом.
Но это, XIX век, хотя и близкий к завершению. Вот пример из следующего века. Вновь Дания, в которой, казалось бы, не «порвалась связь времён»[239], у женщин достаточно прав, но теперь обличает женщина, причём не мужчину, а женщину.
Датская писательница Ида Йессен[240], назвала свой роман весьма симптоматично: «Азбучная история». Действительно, азбучная история, если с одной стороны мужчина – простодушный интеллигент, а с другой, женщина – типичная стерва. Куда «азбучнее», если, чтобы не вытворяла эта женщина, наш бедолага-интеллигент сначала сокрушается, возмущается, а потом его захлёстывает чувство вины. Для него женщина всегда права и всё тут.
Рецензент «Азбучной истории» считает, что:
«Ида Йессен сделала цельный, убедительный мужской кошмар. В нём есть чёткая, законченная система образов. Умный, но наивный мужчина. Истеричная, но стервозная женщина. Дети, которых она забирает себе и умело настраивает против отца. Его квартира из спокойной берлоги превращается в сумасшедший дом. И гостиница, где мужчина может, наврав что-нибудь жене, на день-другой просто остаться один – блаженство!».
Поверим женщине, «азбучная история», но… сколько их «азбучных историй», стоит только поменять точку обзора, шаг вправо, шаг влево, шажок вправо, шажок влево…
Оставляю читателям самим фантазировать на эту тему.
Итоговая запись в дневнике: в саду и на зелёной лужайке или ещё раз о «женском» и «мужском»…
Сегодня 25 мая 2016 года.
«Итоговая запись» не означает завершение работы. Есть пробелы в «Дневнике», которые ещё предстоит заполнить. Но в «Дневнике» эта запись так и останется итоговой. Подвожу черту.
…в саду и на зелёной лужайкеВ последние дни, особенно днём, когда солнце не обжигает как знойным летом, вижу в садах и скверах стайки юношей и девушек. Ставши в круг, они играют в волейбол, или сидят прямо на зелёных лужайках, радостные, весёлые, улыбчивые.
Меня радует, что они молодые, что веселы и раскованы, что много смеются.
Меня радует, что между ними нет искусственных преград связанных с различием в полах.
Они есть, они у них в головах, но здесь в садах и скверах они о них забывают, ведь случается, что девушка владеет телом более искусно, чем юноша.
Но я невольно задумываюсь. Они вернутся в жизнь и должны будут забыть о том, что происходило в саду и на лужайке.
Там, в жизни, есть вековые устои, мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной.
Там, в жизни, они должны будут подчиниться вековым устоям, которые, кроме всего прочего, замуровывают человека в «пол».
Они смирятся с этим, не потому что они такие смирные, а потому что большинство из них так думают.
Эти различия, не столько в их телах, сколько в их головах, обнаружатся сразу, как только от садов и лужаек, они перейдут в молодые семьи.
Возникнут конфликты, за которыми будут стоять незримые «другие».
Он будет говорить ей, женщине, так не следует поступать.
Она будет говорить ему, мужчине, так не следует поступать.
Незримые «другие» будут говорить за них, и они так и не услышат друг друга.
Мужчины будут убегать от своих жён в мужские «стаи», напиваться, прятаться от самих себя, а возможно и деградировать.
У женщин будет меньше возможности сбиваться в женские «стаи», но на помощь придёт телефон, с его бесконечным трёпом, и они будут прятаться от самих себя, а возможно и деградировать.
Все они окончательно забудут о том, что было там, в садах и на лужайках. Жизнь им подскажет, мужчина это мужчина, женщина это женщина, и ничего изменить нельзя. И они смирятся.
Как долго это будет продолжаться?
Трудно сказать. Изнутри всё это подтачивается. От глобального мира не спрячешься, то, что происходит во всём мире, влияет и на нас.
А в остальном – удержимся от прогнозов.
Конечно, и в глобальном мире «мужское» и «женское» не исчезнут. Слишком большой в них накоплен культурный потенциал, литература, живопись, кино, театр, даже музыка. Плюс рефлексия, книги, статьи, дискуссии.
Но «женское» и «мужское» не обязательно должны совпадать с конкретной женщиной или с конкретным мужчиной. Анатомия не обязательно должна быть приговором, а пол – бременем.
Если мы действительно переходим к тонкоматериальной природе Земли, то «мужское» и «женское» станут культурной игрой[241], в «пол» можно будет входить и выходить, вспоминая и забывая о нём.
Конфликты не исчезнут, они никогда не могут исчезнуть. Как не исчезнут потеря близких людей, душевность и чёрствость, благородство и подлость. Просто в тонкоматериальном мире уменьшится бремя предустановленного, в том числе бремя пола. За всё придётся отвечать самому. И неизвестно легче это или труднее.
Это не утопия, это будет происходить, это уже происходит.
И когда-нибудь мы скажем, чему здесь удивляться, это так просто, так обыденно.
В начале книги, в третьем разделе, приводил слова одного из авторов движения «Национальная организация для мужчин против сексизма», вновь повторю их, завершая книгу. Повторю, потому что мне они представляются очень важными и имеющими для нас в Азербайджане огромное, более чем огромное (!), значение.
«Мужское освобождение стремится помочь разрушить полоролевые стереотипы, рассматривающие «мужское бытие» и «женское бытие» как статусы, которые должны быть достигнуты с помощью соответствующего поведения. Мужчины не могут ни свободного играть, ни свободно плакать, ни быть нежными, ни проявлять слабость, потому что эти свойства «феминные», а не «маскулинные». Более полное понятие о человеке признаёт всех мужчин и женщины, потенциально сильными и слабыми, активными и пассивными, эти человеческие свойства не принадлежат исключительно одному полу».
А пока…
Пусть наши юноши и девушки чаще играют в садах и зелёных лужайках.
Пусть учатся жить, как подобает свободным людям.
…о чём так и не напишу: просто список
Давно пора ставить точку, остаётся назвать сюжеты, о которых хочется упомянуть. Или оставить до следующего раза.
«Трамвай "Желание"», пьеса английского драматурга Тенесси Уильямса[242], 1947, фильм режиссёра Элиа Казана[243] 1951 года, в ролях Вивьен Ли[244] и Марлон Брандо[245].
…другие фильмы по этой пьесе не стал смотреть…
Всегда думал (мыслечувство) если существует пластическая субстанция «женского» как абсолютно текучего, то это Бланш Дюбуа (основной персонаж пьесы и фильма) в исполнении Вивьен Ли. Выразить это словами вряд ли смог бы, поэтому решил вынести за скобки. Но присутствие Вивьен Ли – Бланш Дюбуа в этой книге было необходимо.