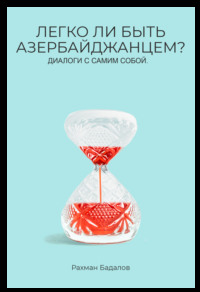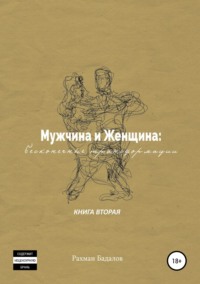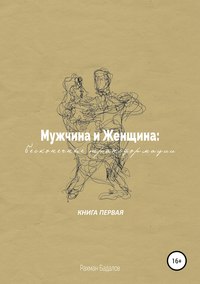Мужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга третья
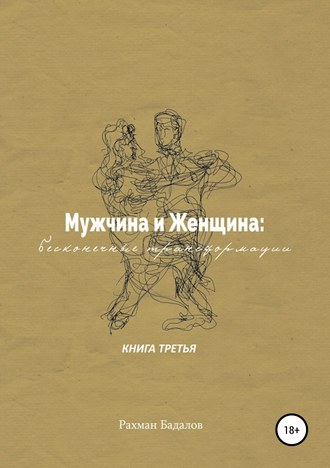 полная версия
полная версияМужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга третья
Жанр: культура и искусствокинематограф / театристория искусствакритикаискусствокиноискусствомужчина и женщинатеатр
Язык: Русский
Год издания: 2019
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля