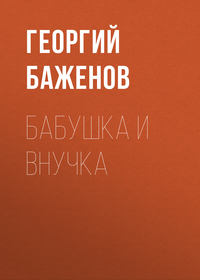Полная версия
Ловушка для Адама и Евы (сборник)
Не бывать такому!
Наталья Михайловна почувствовала, как по ногам, которые она вроде перестала чуять, побежали пупырышки озноба, словно их стали колоть тысячи иголок. Пошевелила пальцами – шевелятся. Едва-едва, но шевелятся! Попробовала перевернуться с живота на спину – перевернулась. Приподнялась, уперлась сзади руками – получилось. Ну надо же! Сама не поверила, сколько часов прошло – вечер, ночь, утро, – тела не чувствовала, а тут на тебе – опять сидеть можешь. Ноги, правда, так начало колоть, что застонала невольно, стиснула зубы, а все равно то колет, то жаром обнимет, будто на плиту раскаленную босая встала; сидела, стонала, качала головой, терпела. Глаза закрыла, стараясь убаюкать боль. А боль все разрасталась, подымалась снизу вверх, все выше и заостренней, словно не просто иголками тебя кололи, а глубоко протыкали плоть, а там иголку удерживали – каково, мол, оно, потерпи теперь, змея, потерпи, подколодная… Наталья Михайловна терпела изо всех сил, но вот слез удержать не могла, они сами катились по щекам – от боли, хотя редко когда в своей жизни плакала Наталья Михайловна в открытую…
Не одолев боль, она снова легла на пол, только не на живот, как прежде, а на спину, – боль шла по ногам густая и плотная, сознание кричало: ничего нет, одни ноги, одна боль… Наталья Михайловна впала в какое-то новое для себя забытье, стонала, потом принялась невольно двигать ногами так, будто едет сейчас на велосипеде, и чем сильней крутила педали, тем меньше боль, тем легче сознание…
«Ты же бесчувственная, – говорила дочь. – Ходячий лозунг. Плакат в платье…»
Она помнила: какое-то время зять защищал ее. Проявлял деликатность. Ничего не создают, погрязают во лжи и лицемерии, а внешне вон как охота быть благородными и чуткими. Это подумать только – идут на жизнь. Обворовывают, обирают ее, потребители. Толпой идут, взявшись за руки. А таких, как Наталья Михайловна, на свалку: «Будьте так любезны, отойдите в сторонку, не мешайте жизнь разбазаривать!..» Не-ет, она так просто не дастся. Плохо они ее знают. Когда Федор Алексеевич в пятьдесят девятом умер, она не проронила ни слезинки. Ни одной! А могла бы год плакать – слез хватило бы. А вот не плакала…
Сморщившись от боли, Наталья Михайловна оперлась сзади на руки и вновь села. Теперь сидеть было гораздо легче. Посидела, отдышалась, привыкая к новому состоянию. А новизна была в том, что она могла двигать ногами, сгибать их. Вот только не верилось, правда ли это. Совсем недавно ползала по полу, как червь. И вот сидит. А вдруг и встать может? Наталья Михайловна подогнула под себя ноги, чуть наклонилась, оттолкнулась сзади руками и, не удержавшись, полетела вперед. Обидней всего – не по направлению к телефону, а в сторону телевизора, потому что сидела, развернувшись от входной двери. Падая, больно ударилась лицом о паркет, но – странное дело – только усмехнулась. А усмехнулась потому, что твердо поняла: встать может. Снова села и, придерживаясь руками за телевизионную тумбу, которая оказалась совсем рядом (сколько часов ползла она от нее буквально по сантиметру к телефонному аппарату!), начала медленно подниматься на ноги. А ведь поднялась! Ноги дрожали, подгибались и, может быть, не выдержали бы первого сильнейшего напряжения, не вцепись она так крепко в телевизионную тумбу. Наталья Михайловна усмехнулась. Увидел бы ее сейчас Федор Алексеевич… И как далеко он вдруг показался. То был близко-близко, совсем рядом, руку протянуть, а теперь – далеко…
Долго стояла Наталья Михайловна у телевизора, не то отдыхая, не то собираясь с силами, чтобы двигаться дальше… Она не знала, устоит ли, если шагнет от тумбочки, но в то же время понимала, что шагать придется, иного выхода нет, нужно двигаться вперед, верней – назад, к телефону, потому что спасение все-таки только в нем…
Она шагнула от телевизора. Стояла, шатаясь; долго стояла, но не упала. Руки выбросила по сторонам, как эквилибрист; балансировала ими, заносило ее туда-сюда изрядно. Но стояла. На полусогнутых ногах, но стояла. Сделала шаг. И тут так качнуло, что наверняка полетела бы, да сработал инстинкт – тут же полуприсела, погасила падающее движение. Усмехнулась. Был бы Федюшка, внук, он, наверное, здорово бы сейчас хохотал над бабкой. Так она явственно представила его, белесого, кучерявого. И лицом, и повадками в Федора Алексеевича… Наталья Михайловна, видя перед глазами Федюшкино смеющееся лицо, выпрямилась, сделала еще один шаг, теперь гораздо уверенней. Федюшка своим смехом помогал ей, придавал силы… Потом еще шаг, еще… Минут за десять – не больше – она пересекла всю комнату, из угла в угол, от телевизора до двери, и теперь самой было удивительно, как недавно столько часов ползла, ползла и так и не смогла доползти до телефона…
И когда стояла теперь рядом с телефоном, оставалось только руку протянуть, он вдруг сам зазвонил – да так резко, неожиданно, ведь столько часов молчал, что Наталья Михайловна вздрогнула, испугалась. Но вот взяла трубку.
– Да, – сказала Наталья Михайловна.
В трубке было молчание, хотя и чувствовалось чье-то дыхание.
– Да, – повторила Наталья Михайловна.
– Это звонят с того света. Гроб будете заказывать?
Голос показался Наталье Михайловне странно знакомым; неужто зять?.. Но не это главное. Главное – она вдруг весело, как будто тысячетонный груз спал наконец с плеч, рассмеялась в лицо вопросу.
И спокойно положила трубку на рычаг.
Ей и в самом деле сделалось покойно на душе. Если звонят с того света, значит, она еще жива.
Наталья Михайловна улыбалась. Она была счастлива в это утро.
Меч между мной и тобой
Телефонный роман
ДРУЗЬЯМ ДЕТСТВА
Владимиру Телъминову,
Виктору Конюхову,
Валерию Сомову и
Владимиру Федюнину
Опять приехал Петр. Третий год он приезжает в Москву, снимает квартиру, два-три месяца живет свободно, водит ее в театры, в кино, в рестораны, никогда не хамит, даже если она бывает у него дома, всегда спокойный, внимательный, выдержанный, так и веет от него порядочностью и честностью. Но ей с ним скучно.
Петр живет в Мурманске. Она знает, что он моряк, но никогда не расспрашивает его о работе; в год их знакомства, когда ей исполнилось семнадцать лет, он, видимо, несколько не рассчитал, много рассказывал о своих плаваниях, и главное, что она уяснила, это его вечная тоска по суше и вечная боль от измены жены: пока он плавал, жена увлеклась его лучшим «другом», которого он с тех пор вычеркнул из своей жизни. Ей было семнадцать лет, и она скучала, слушая про измены, про работу, ни того, ни другого она еще не знала, ей с самого начала показалось скучно разговаривать с ним, верней – скучно слушать его житейски-будничные рассказы, и если она потянулась к нему, то только по одной причине: он был взрослый, на тринадцать лет старше ее, и, несмотря на это, признал ее тоже взрослой, такое с ней случилось впервые. Ребята-ровесники казались ей маленькими, а потому глупыми и грубыми, а может, наоборот – они были глупые и грубые, а потому – маленькие, в общем – с ними ей не было интересно, хотя в общении с ними она и была сама собой – раскованная, веселая, даже нахальная немного, немного хамовитая, немного развязная, но это оттого, что с ними она была как рыба в воде, в своей стихии; другое дело, что они не интересовали ее как мужчины, как представители «мужской половины», к которой ее тянуло давно, тревожно и неудержимо. Но взрослые мужчины еще, как говорится, не вгляделись в нее, к семнадцати годам она, в отличие от своих подруг, была больше девочкой, чем девушкой, и вот случайно в парке познакомилась с Петром, который почувствовал в ней нарождающуюся женственность, был ее первооткрывателем. Он тогда решил про себя: я подожду, буду ждать год, два, сколько угодно, из этой девочки вырастет женщина, которая будет предана мне, я воспитаю ее, она будет только моей, это не то что связываться с женщиной, которая давно идет отравленным житейским путем, которая не ведает ни чистоты, ни святости, а думает лишь о деньгах и тайных утехах, – к черту все. Вот из этой девочки и получится настоящая жена, я подожду.
Он приручил ее к себе. Познакомился с родителями, официально вошел в семью как жених и будущий муж и вот приехал снова, такой уравновешенный, спокойный, порядочный, приехал, чтобы наконец увезти ее с собой в Мурманск – после свадьбы, которая должна состояться через месяц.
А ей было скучно с ним.
И когда он обнимал ее или целовал (теперь это позволялось), она ничего не испытывала, кроме легкого отвращения к самой себе, и руки ее, которые невольно поднимались и ответно обвивали его шею, были безжизненны и вялы. Он не обижался, не тревожился, не корил ее, принимая холодность за неопытность и чистоту, она еще не женщина, думал он, откуда быть страсти, нежности, томности, все впереди, он даже радовался про себя: Господи, в наше время, когда черт знает что творится кругом, – и такая неискушенность, чистота, двадцать лет, а как ребенок, ей-богу, и сколько счастья, должно быть, ожидает их в семейной жизни, когда она проснется, отзовется на его любовь и будет верна ему, потому что с самого начала он не сделал ни одной ошибки, не оскорблял, не унижал, не принуждал ее ни к чему, а в женщине, верил он, долгие годы, если не всю жизнь, живет воспоминание-благодарность или воспоминание-унижение от того, как ей пришлось стать женщиной. В это он верил свято.
И только в одно не мог поверить: что ей с ним скучно. Мужчина, моряк, столько всякого пережил, рассказывает ей подробно, долго, а она вдруг скажет: «Опять об этом. Скучно, Петя». О каком-нибудь трудном плавании он рассказывает так, что самому становится не по себе: и гордость за товарищей, и жалостливое участие к ним переполняют душу, а она опять, в самый неожиданный момент: «Скучно, Петя». Даже если о загранице начинает говорить, о Дании, Японии, Индии, всего себя наизнанку выворачивает, она остановится, посмотрит на него: «Япония или Индия – ты только о себе рассказываешь, о своей тоске. Неинтересно все это, Петя…» И что больше всего поражало Петра – несоответствие ее образа, который жил в его душе, и этих пустых, взрослых, безразличных глаз, которыми смотрела на него двадцатилетняя девушка. Или он чего-то не понимал в ней?
Она была чиста и непорочна, думал он, отсюда внешняя холодность, просто она не проснулась, она еще спит, слава Богу, именно такая жена и нужна ему: он, только он должен пробудить ее к чувственной женской жизни, и тогда судьба неминуемо наградит их семейным счастьем.
В семнадцать лет она еще училась в школе, а теперь, в двадцать, работала секретарем-машинисткой в райздравотделе. Все это не имело, конечно, никакого значения: через месяц они уедут в Мурманск, Петр будет плавать третьим помощником капитана, она станет домохозяйкой, а если захочет – поступит в медицинский (Петр ей поможет): у нее всегда была мысль, не мечта, а именно мысль – стать врачом, желательно детским, отчасти потому она и работала в райздравотделе – чтобы помогли при поступлении в институт, снабдили всякими справками, характеристиками и рекомендациями (что ей и обещали, конечно). Работала она хорошо, отличалась грамотностью и исполнительностью, не была ни кокетливой, ни развязной с посетителями, скромная, сдержанная, для кого-то даже симпатичная, а в общем – обыкновенная, но приятная на вид, с мягкой нежной улыбкой, с задумчивыми серо-голубыми глазами, с опаленными белесостью легкими пушистыми волосами, которые после мытья сами собой вились, рассыпаясь по спине влажными отяжелевшими волнами.
Казалось, весь облик ее источал мягкость и нежность, и это было гораздо важней красоты, яркости, броскости – в облике ее читался как бы видимый залог того, что из нее вырастет верная, сердечная жена, не способная ни ко лжи, ни к лицемерию, ни к тайной корысти, ни к умерщвляющему душу эгоизму.
Звали ее Аленой.
В тот вечер Алена лежала у себя в комнате поверх одеяла прямо в платье, то ли скучала, то ли грустила, слушала пластинки, которых у нее было несметное количество, – подарки Петра: нравились ей Элвис Пресли, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и все остальное в таком же духе: грустное, затаенно-чувственное. Душа ее, когда она слушала Элвиса Пресли, исходила непонятным томлением: кажется, все уже решено, вся жизнь впереди известна и понятна (она выходит замуж), но в то же время…
Зазвонил телефон. Алена, не вставая, лениво протянула руку (уверенная, что это Петр), подняла трубку:
– Алло?
– Сколько время?
– Что-что? – не поняла Алена.
– Сколько время, тетя?
– Алло, кто это? – растерялась Алена, не понимая, кому может принадлежать детский голос. И в это же время начала быстро вспоминать, у кого из родственников есть маленькие дети.
– Тетя, ско-о-олько время?
– Не «сколько время», – поправила Алена, – а «который час».
– Ну-у, сколько время, тетень-ка-а?..
Алена взглянула на часы.
– Восемь часов десять минут. Алло, а кто это?
– Это Алик. Спасибо, тетенька. А вы где, тетя, в телефоне сидите, да?
– Нет, не в телефоне, – улыбнулась Алена. – А кто ты такой, Алик? Чей?
– Я еще маленький. Папа Алексей, а мама Марина у меня, знаете?
– Алексей и Марина… – задумалась Алена. – Нет, не знаю.
В трубке послышалась как бы легкая борьба, детский писк: «Ну, папка… У, папка, плохой какой-то… не буду тебя любить…» – и раздался густой мягкий голос:
– Алло…
– Да, да!
– Девушка, извините, пожалуйста. Сын балуется телефоном, видно, случайно набрал ваш номер. Без конца «сто» набрать хочет – время узнать, а получается Бог знает что…
– Да ничего, ничего, – поспешила Алена. И почувствовала: ей хочется еще и еще слышать этот голос, было в его звучании что-то приятное, волнующее.
Он замешкался на секунду. А она словно ждала дальнейшего разговора, не клала трубку.
– Вы любите Элвиса Пресли?.. Я слышу, он поет у вас.
– Люблю, – ответила она.
– Похоже, у нас с вами одинаковые вкусы… – Голос его зазвучал несколько игриво (говорить хоть что, лишь бы говорить, лишь бы не оборвалась ниточка разговора). – А знаете что, – вдруг с подъемом предложил он, – давайте познакомимся? Это ведь интересно – познакомиться вот так, по телефону. Как вас зовут?
– Но ведь вы женаты, – сказала она.
– А вы, значит, не замужем? – Чувствовалось, он там улыбается. – Приятная новость.
– Не радуйтесь. Через месяц у меня свадьба.
– Поздравляю! Значит, будем с вами на равных: вы – жена, я – муж.
– С одной лишь разницей: вы – не мой муж, я – не ваша жена.
– Именно поэтому нам и надо познакомиться. Терять ведь нечего, чего тогда бояться?
– Странный вы какой-то… Сидите у себя дома, рядом сын…
– …и жена рядом. На кухне.
– Вот видите, и жена дома, а вы хотите познакомиться с неизвестной девушкой.
– А вы ведь тоже не против хотя бы поболтать со мной. Если бы не так – вы бы давно бросили трубку.
– Ну, я… Я, может, из любопытства, может, мне делать нечего, я ведь ничем не рискую… Вы не знаете, кто я, где я, и никогда не узнаете. Мне можно и поболтать с вами. А вот у вас рядом сын, жена… Как это вы не боитесь, ей-богу?
– Если ваш муж будет бояться вас, а вы – его, лучше сразу забудьте о свадьбе.
– Ну, не в том смысле, что прямо бояться… Вам же должно быть совестно, что вы при жене заводите такие разговоры…
– А мне не совестно, я ничего плохого не делаю. И скажу вам откровенно, – он стал говорить тише, – скоро сюда войдет жена, и, если вы сейчас не дадите свой телефон, мы навеки расстанемся. А зачем? Какой смысл? Почему бы нам не поболтать иногда? Дружески так, а? Кстати, жена моя уже идет… – Он перешел почти на шепот.
Несколько секунд Алена колебалась, потом, будто перед глубоким нырком, вздохнула и назвала номер телефона.
– Запомните? – спросила насмешливо.
– Склерозом пока не страдаю. А как вас зовут?
– Алена.
– А меня Алексей.
– Я знаю. Ваш сын назвал вас. И вашу жену. Так что если что, буду жаловаться Марине…
Он позвонил ей через несколько дней. Она, честно говоря, уже не ждала его звонка. Если бы он хотел, то позвонил бы сразу на другой день. А сегодня, видно, делать нечего – вот и вспомнил о ее существовании.
Она разговаривала с ним сухим тоном, гораздо суше, чем в первый раз.
Он спросил:
– Вы что, обижаетесь на меня?
– Разве я уже могу, – она подчеркнула «уже», – обижаться на вас?
– Но что-то голос ваш сегодня… Может, вы болеете?
– Нет, я здорова. Просто я думаю, наш разговор никому не нужен – ни вам, ни мне. Давайте на этом закончим все.
– Ах, ах, какой холодный, строгий тон… А между тем сколько вам лет, Алена? Семнадцать? Восемнадцать?
– Какое это имеет значение? Ну, скажем, двадцать. Дальше что?
– В этом возрасте настроение у девушек очень переменчиво. Вчера – одно, завтра – другое…
– Откуда вы знаете?
– Опыт, дорогая девушка.
– А вы, оказывается, грубиян. Я думала, вы совсем другой…
– Извечная ошибка женщин. Сначала они напридумывают о нас Бог знает что, потом разочаровываются. Вы еще в женихе не разочаровались, Алена? Кстати, как его зовут?
– Ну, это вам совсем не обязательно знать. И вообще наши с ним дела никого не касаются.
– Значит, до свидания?
– До свидания…
– Жаль… Я-то думал, вы девушка умная. Во всяком случае – мне показалось так. И я подумал: почему бы не поболтать с умной современной девушкой? Что нам мешает? Оказывается, мешает обычная наша глупость.
– Вы самокритичны. Я себя глупой не считаю.
– Но это же видно и слышно – вы глупая, маленькая, но уже – поверьте – несчастная. Почему? Потому что вы собираетесь замуж, а вовсе этого не хотите – и вот страдаете. Это во-первых. Во-вторых, вы сами не знаете, чего хотите, и от этого страдаете еще больше. В-третьих, вы и разговаривать со мной стали, потому что глубоко в душе у вас спрятана надежда: а вдруг?.. Вдруг что-то случится, что-то изменится, и вы все-все поймете в жизни, и станете по-настоящему счастливой?! Хотите, буду вашим духовным учителем?
– Откуда в вас такая самоуверенность?
– Опыт, дорогая девушка.
– Сколько же вам лет? И прошу вас – не называйте меня «дорогой девушкой».
– Угадайте… Хотя – скажу: двадцать три.
– Ой, рассмешил меня! Двадцать три – и чего-то воображает о себе…
– Имей в виду, я отец семейства. И потом – три года в нашем возрасте – это ой-ей-ей… Ты еще только начинаешь входить в круги ада, а я, можно сказать, давно барахтаюсь в них.
– Жалуешься?
– Констатирую факт. – Явственно было слышно, как он усмехается в трубку. Но почему? Потому что смеется над ней или просто у него такая привычка – подтрунивать над людьми?
– Странный ты какой-то… – сказала она. – Я сейчас представила тебя… Мне кажется, у тебя ноги нет.
– Чего-о?! – Он залился таким веселым смехом, что Алена невольно улыбнулась. – О Господи! – смеялся он. – У меня ноги нет? Ну, ты даешь!
– А чего ты тогда злой? Когда у человека дефект, он всегда людей подковыривает.
– Если честно, у меня травма души.
– Ну да?!
– Точно. Я стараюсь, чтобы девушке скучно не было, а она говорит: вы инвалид. Ты протаранила мне душу.
– Слушай, ну ты и свистун, а? Как тебя только жена терпит?
– Не терпит, а любит, боготворит.
– Вот бы она послушала, как ты с другими по телефону треплешься.
– А что? Она знает, что я ветреный. У меня, понимаешь ли, ветер в голове. Мне все можно.
– И не стыдно?
– He-к. Лучше я в открытую буду такой, чем спрячусь, как улитка в ракушке. А то потом начнете выковыривать оттуда палкой.
– Больно ты всем нужен!
– Всем не всем, а кое-кому нужен. Алику, например, – сыну. Жене. Тебе вот нужен.
– Прямо так и разбежалась!
– А что? Я очень даже удобный для тебя. Взять от меня можно много, а взамен – шиш.
– Чего от тебя взять-то?
– А поговорить с человеком – разве мало в наше время? Ну-ка, вспомни, с кем ты можешь поговорить искренне? С женихом можешь?
– Это не твое дело.
– А с родителями?
– Тоже тебя не касается.
– Подруг у тебя нет. Угадал? Остается один Алеша.
– Кто это? Ты, что ли?
– Я.
– Ой, держите меня, я падаю! – рассмеялась Алена. – Я такого хвастуна в жизни не встречала.
– И не встретишь. А хочешь, предреку нашу судьбу?
– Нашу? Не смеши.
– Мы встретимся, потом ты меня бросишь, выйдешь замуж, но всю жизнь будешь вспоминать меня…
– Как бы не так.
– Впрочем, возможны варианты. Например, не ты, а я тебя брошу.
– Еще не виделись, а бросать собирается.
– Замуж не раздумала выходить?
– Так я тебе и рассказала все!
– А чем тебе, собственно, не нравится жених?
– С чего ты взял, что не нравится?
– Нравится? Врешь! – твердо сказал Алексей. – Угадал? Только честно?
– Ничего я тебе не скажу. Ты кто такой, чтобы я тебе докладывала?
– Я? Твой друг и учитель – Алеша.
– Вот что, друг Алеша, я устала.
– Вас понял, перехожу на прием. Когда позвонить в следующий раз?
– Не надо звонить. Ни в следующий, ни в какой другой раз. Ни к чему.
– Тогда обнимаю. Какие у тебя губы – полные, мягкие, тонкие?
– Ого! – невольно усмехнулась Алена. – Ну, положим, мягкие. Дальше что?
– Целую тебя в мягкие губы! – И повесил, нахал, трубку.
Весь следующий день ее томила странная тоска. Казалось бы, все хорошо, Петр приехал за ней на работу, сидел в райздравотделе серьезный, вежливый, лишних вопросов не задавал – не мешал работать: Алена печатала на машинке. Несколько раз выходила из кабинета Нина Васильевна, заведующая отделом, улыбалась Петру: «Не боитесь, Петр Валентинович, увозить нашу Алену из Москвы? Ведь там кругом моряки, отобьют…» В ответ он тихо улыбался, посматривал на Алену: слышишь, мол, что говорит Нина Васильевна? Разве такое может случиться с нами? Алена только ниже склонялась над машинкой, как будто выискивая в тексте ошибки. Она еще ничего не знала, ни любви, ни измен, но в этот момент ей хотелось изменить Петру. Просто так. Назло. Она сама не понимала, чего ей хочется. Она терпела Петра, потому что мечтала об одном: совершенно изменить свою жизнь. Больше всего ее угнетала жизнь рядом с родителями. Надоели их нотации, наставления. Их страх за нее: с ней обязательно должно что-то случиться – ужасное, непоправимое. Последние три-четыре года это ощущение, как меч, висело над всей их семьей. Отец ненавидел ее друзей, всех этих Стасов, Эдиков, Аликов, Нориков.
Он постоянно ждал от них какой-нибудь пакости. Блат, жаргон, курение, тряпки, прыщи, длинные ноги, сутулые спины, бегающий взгляд… Что за поколение такое? Бывший спортсмен, отец всегда смотрел людям в глаза; в свои пятьдесят пять лет был подтянут, строен, опрятен, не пил, не курил. В мужчинах любил основательность и порядочность. Что ему, кстати, и нравилось в Петре. Кроме того, Петр знал жизнь, многое повидал, через многое прошел, – чем он плох для Алены? У отца была теория: девушка должна выходить замуж как можно раньше, рожать детей, воспитывать их, а не идти в люди, не познавать так называемую жизнь, которая для девушек кончается тем, что они идут по рукам, теряют идеалы, разочаровываются в любви, не рожают детей, плюют на родителей… А мать? Мать всегда, всю жизнь была под пятой у отца. Что отец сказал – закон для семьи. Осторожные движения, грустный взгляд, кроткие глаза – вот что взяла от матери Алена. Внутреннюю тоску тоже, наверное, у нее позаимствовала. Иначе как понять, почему при внешней благополучной жизни Алене так плохо?
После работы Петр повел Алену в театр. Иногда ему удавалось достать билеты на спектакли в хорошие театры – МХАТ, Малый, «Современник», однако больше других он любил театр «Ромэн». Балаганность «Романа» раздражала Алену, дешевые ходы и неприкрытая мелодрама еще больше портили дело, но она уступала Петру. Уступала, потому что любила само звучание цыганских голосов, их напевность, щемящую грусть и томность движений. В театр она ходила, чтобы услышать три-четыре песни. Действие ее не интересовало. Совсем другое происходило с Петром. В жизни спокойный, уравновешенный, хладнокровный, он любил в «Романе» горячность, зажигательность, стихию цыганской бродячей жизни, глаза его накалённо горели, ладони начинали заметно потеть (Алена ощущала это – Петр всегда держал ее руки в своих), а ноги в такт музыке непроизвольно выбивали ритм. Случалось, зрители делали им замечания, и в эти минуты Алена испытывала искренний стыд за Петра.
Но что было делать? Она дала согласие выйти замуж. Потому что жить с родителями – еще большая тоска. Нужно резко изменить жизнь. Раз и навсегда.
К тому же Алена считала себя некрасивой.
И это делало ее очень несчастной.
В театре, когда она взглянула на себя в зеркало, она чуть не расплакалась от досады. Собственные глаза показались ей плоскими и холодными, волосы лоснились, и следа не было от их обычной пышности. Алена перехватила в зеркале взгляд Петра – он откровенно любовался ею.