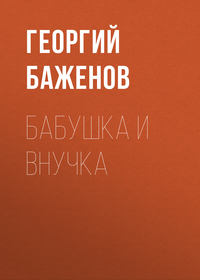Полная версия
Ловушка для Адама и Евы (сборник)
– Нет.
– Почему?
– Почему я должен хотеть того, чего, во-первых, у меня вдосталь, а во-вторых, я просто этого не хочу.
– Значит, ты со мной просто так?
– А ты?
В это время – странное дело – в дверь смело, напористо позвонили. Нина невольно покосилась на настенные часы – половина двенадцатого ночи.
– Странно… Кто бы это мог быть?.. – пробормотала она.
– Скоробогатов? – Магулин был спокоен: он гость, сидит на кухне, пьет кофе, ведет обстоятельные разговоры.
– Исключено.
Звонок повторился. Еще более настойчивый, энергичный.
Нина запахнула халат, сказала:
– Если что, ты пришел недавно. Я тебя сама пригласила – обсудить кой-какие дела по работе.
Магулин спокойно кивнул. Нина пошла открывать.
Зазвонили в третий раз, еще решительней.
– Кто? – хрипловатым голосом спросила Нина.
– Квартира Скоробогатовых?
– Да.
– Вам телеграмма.
Нина с облегчением открыла дверь, расписалась на квитанции.
– Если б не срочная, не стал бы беспокоить так поздно. Извините.
– Спасибо.
«СРОЧНО ПРИЛЕТАЙ С ПАПОЙ ПЛОХО МАМА»
– О Господи… – прошептала Нина.
Вернулась на кухню. Магулин смотрел на нее вопросительно.
– Телеграмма Скоробогатову. С Урала. Плохо с его отцом.
– Гм. Где же теперь искать Скоробогатова?
– А черт его знает, где носит этого идиота…
IllВ этот вечер Наталья Михайловна поужинала как всегда – ровно в семь часов. С давних пор у нее был заведен твердый порядок – завтракать, обедать и ужинать точно в определенное время. Ни дочь, ни зять никогда не могли привыкнуть к ее пунктуальности, Наталья Михайловна поначалу делала замечания, а потом плюнула, надоело. Дело не в пунктуальности самой по себе, а в том, что организм за долгие годы привык к определенному режиму дня, и Наталья Михайловна без всякого удивления замечала, что обедать, например, ей хочется ровно в два часа, ни раньше, ни позже, а если она просрочит, то потом нет никакого аппетита, пища кажется пресной, безвкусной. То же было с завтраками, то же – с ужинами. И шло это ой из какого далека, из той глубины времени, когда жив был Федор Алексеевич, когда он не просто жил – работал, горел, сгорал…
На ужин Наталья Михайловна отварила себе картошки, натолкла из нее пюре, залила простым постным маслом. В холодильнике стояла тушеная рыба (треска, которую посчастливилось достать на днях; продавщица Вера, знакомая Натальи Михайловны с шестидесятых годов, всегда оставляла ей что-нибудь по старой памяти), но рыбы сегодня не хотелось. Вчера рыба, сегодня, завтра – это уж слишком, хотя в общем она рыбу любила больше, чем мясо. Одно время она мясо вообще не ела – из убеждений, но врачи посоветовали: немного отварного – просто необходимо организму в вашем возрасте, а иначе… И Наталье Михайловне пришлось уступить врачам, но не поступиться своими убеждениями… Она с охотой поела картошки, заварила свежего чая, попила вприкуску с карамелью, что очень любила и что шло, естественно, тоже с незапамятных времен, когда каждая конфетка была лакомством (так и осталось до нынешней поры); потом помыла посуду и направилась в большую комнату – смотреть телевизор.
Шел Наталье Михайловне семьдесят второй год…
Все было как всегда; Наталья Михайловна щелкнула тумблером, подождала, когда нагреется экран, отрегулировала яркость, громкость; передавали, как обычно в это время, последние новости. Наталью Михайловну необычайно интересовало, что происходит в мире, потому что она многое повидала, многое пережила, помнила революцию, гражданскую войну, голод, разруху, помнила тридцатые годы и Великую Отечественную, пятидесятые и шестидесятые, и у нее щемило в груди, когда она слушала, что происходит на земном шаре, потому что, казалось ей, все висит на волоске, достаточно одной какой-нибудь случайности – и все рухнет в небытие. Все – и прошлое, и настоящее, добытое для жизни с таким трудом, кровью и потом…
– …события в Ливане комментирует наш специальный корреспондент Фарид Сейфуль-Мулюков…
Наталья Михайловна сделала лишь один шаг к дивану, с которого обычно смотрела телевизионные передачи, как вдруг ноги ее подкосились – и она, не успев ничего понять, рухнула на пол…
Сколько она пролежала и что с ней произошло, Наталья Михайловна не знала. Когда она открыла глаза, комната показалась ей странной, перекошенной (впрочем, она и комнату свою узнала не сразу); лежала Наталья Михайловна навзничь, с головой, откинутой набок. Увидела подоконник, цветы, перекосившиеся рамы, торшер. Слегка повернула голову. Люстра. Потолок. Люстра вот-вот, казалось, может сорваться и упасть – такой она грозной и тяжелой ощущалась снизу. Наталья Михайловна попыталась приподняться, не тут-то было. Она пошевелила пальцами – пальцы слушались. Попробовала сдвинуть ноги – ничего не получилось. «Вон что, ноги…» – догадалась Наталья Михайловна. Голова у нее стала работать ясней, комната казалась обычной, без перекошенных стен, только чужой. Наталья Михайловна расслышала долгий – долгий гудок. «Телевизор…» – догадалась она. По гудку и по тому, что в комнате стоял полумрак, Наталья Михайловна поняла, что вечерние передачи давно закончились, эфир отключен, и длинный нудный гудок давно извещал хозяев, что телевизор пора выключать…
«Выходит, несколько часов лежу…» – подумала Наталья Михайловна. Она попыталась сесть, опираясь на руки, руки слушались, но были такие слабые, что Наталью Михайловну вновь отбросило назад, и она больно стукнулась затылком об пол. «Убьешься еще так…» Она решила полежать, отдохнуть, подумать. «Что со мной? Сердце? Но почему ноги?..» Сердечные приступы с ней случались, но ноги вроде не отказывали никогда, а тут она чувствовала – именно ноги подводят. Сможет она все-таки сесть или нет? Сделала новую попытку и поняла, что сесть сможет, руки помогут, но удержаться в таком положении не удастся – что-то упорно отказывает в организме; и хорошо, что поняла это, а то бы опять села да грохнулась назад, ударилась бы головой. «А повернуться? Смогу?..» Наталья Михайловна еще не сознавала, отчего это так важно для нее – двигаться, но чувствовала – только в движении ее спасение. Поворачиваться пришлось туловищем, как бы переваливаться, перекатываться, потому что ногу, ни левую, ни правую, закинуть было невозможно – даже странным это казалось, – а когда Наталья Михайловна перевернулась на живот и чуть подняла голову, то прежде всего увидела в коридоре на низенькой полочке телефон, и вот тут-то ее пронзила догадка: телефон! Только он один может спасти ее…
И, отдохнув немного, Наталья Михайловна стала по миллиметру, по сантиметру продвигаться вперед. Странно, никогда в жизни, казалось, не тратила она столько усилий на обыкновенные движения, а между тем продвигалась действительно по сантиметру. Даже, может быть, иной раз вовсе не продвигалась, потому что тело, готовое к передвижению, вдруг опадало, превращалось в грузную непослушную оболочку, внутри которой все замирало, как бы затаённо и обманно соглашалось, что ничего, все правильно, так и должно быть; самый больший страх был страх несогласия с телом, страх бунта против него; тело свое нужно было умасливать, усмирять, ни в коем случае не злить и не протестовать против него. Вот когда, как никогда прежде, почувствовала Наталья Михайловна тончайшую нить, связывающую душу с телом, нить, которая раньше представлялась не больше чем условностью, а вон как она натянулась сейчас… Как она хрупка сейчас, тонка, как жалка… Наталья Михайловна прикрывала глаза и при этом явственней ощущала, как душа ее, словно отлетевшая от нее, зависшая над ней в сосредоточенном раздумье, снова нехотя, обузданно возвращалась на место, сливаясь с плотью, наполняя ее сумеречно мерцающей, трепетной жизнью. Несколько раз Наталья Михайловна теряла ощущение вот этого возвращения жизни в тело, воссоединения тела с душой, и куда-то проваливалась, а когда приходила в себя, не могла понять, долго ли отсутствовала в пространстве; лежала с широко открытыми глазами, не в силах собрать в себя все, чем была прежде, ощутить себя собой, знакомой себе, родной. Это ощущение собственной чуждости в окружающем мире было одним из самых тягостных, едва переносимых ощущений, и Наталья Михайловна несказанно радовалась, когда постепенно вновь обретала силу двигаться, ибо понимала: в какие бы дали ни уносилось сознание, спасение для нее – в движении. Двигаться вперед, по сантиметру, ползти, только не лежать – вот главное…
Иногда, когда душа все же расставалась с телом, нисходили на Наталью Михайловну видения; в видениях этих она неожиданно для себя сознавала, что никакой смерти она не боится, слышала в себе согласие с ней: смерть – ну что ж, смерть так смерть… И не против смерти она воевала, не со смертью; если она двигалась – то потому, что надо было понять в жизни что-то самое главное, самое важное, а вот понимания этого пока не было, оттого и двигаться надо, вперед, по сантиметру… Страшно не смерти, страшно не понять, что была жизнь… Что есть жизнь до смерти. Вот что главное.
Сколько лет не было рядом мужа Федора Алексеевича, а, странное дело, он никогда не умирал; он как будто взял эту жизнь, вздыбил, укротил – и бросил… И странность тут в том еще, что – бросил… Не оставил, не благословил, не отринул, а – бросил. Когда он только-только приехал из деревни, она помнит – под скулами у него ходили ходуном желваки. Он знал, чего хотел: он хотел засучить рукава и руками, одними руками переделать мир. Что надо? Учиться? Пожалуйста. Он лбом пробил для себя дорогу в образование: если ему думалось плохо, что-то не получалось – он лбом о парту бился. Натурально. Он знал, чего хотел: ничтожный мир должно возвысить! Он не в этих словах знал правду, но понятие жгло именно это: бери, делай замес, мни – и вот он, твой новый мир. Где честные, чистые люди. Где все живут друг для друга. Она тогда, в конце двадцатых, только в глаза ему заглянула и поняла: всё, она – рядом, навеки. Ее потрясла его страсть – жить для других. Она хотела этой же страсти. Жить для других – вот что знал Федор Алексеевич. Техник-механик, он когда только пришел на машиностроительный завод, уже было ясно – он будет не бригадир, не мастер, не начальник смены, не начальник цеха, не главный инженер – директор. Потому что он знал: жизнь для других – это жизнь человека. И потому, когда сгорел дотла – не ушел, не истаял. И ей, Наталье Михайловне, не страшно, что его нет. Она не ощущает, что его нет. Это вот вокруг – нет многих. А он есть. Она тогда была в красной косынке, повязанной на лбу так, чтоб солнце не слепило глаза, но когда увидела его – ослепла, как от солнца. И поняла: она только его. Даже если не жена. Просто его. Женщине нужно раствориться в мужской страсти – расчищать захламленную жизнь. Женщина должна ослепнуть ради этой страсти мужчины. Он бросил мир – Наталья Михайловна осталась. И мир остался, потому что Федор Алексеевич его воздвиг. Воздвиг до неба, потому что оправдание только в небе: мужчина строит ввысь, а женщина идет рядом. Наталья Михайловна ничего не знала в жизни, кроме мужа, зато она узнала всё: мир – это мужчина. Ты рожаешь, потому что мужчине нужны помощники; он воздвигнет мир, а сам иссякнет, и любимая должна дать продолжение, чтоб было кому поддержать и упрочить мир… Если честно, у Натальи Михайловны четыре класса образования… Ну и что? Она не погрязла ни в тряпках, ни в барахле, она стояла в очереди за картошкой и морковью, и когда Федора Алексеевича, как в броневике, привозили на лимузине с машиностроительного завода – обедать, она подавала на белую скатерть самый вкусный на свете борщ, и Федор Алексеевич съедал его до последней ложки, ничего не видя, и Наталья Михайловна была счастлива, даже сейчас болью изнывает сердце, потому что, если б ему не понравилось, он бы заметил, нахмурился, а он нет, съедал и кричал главному инженеру, который со страхом и уважением восседал напротив: «Петрович! Если к среде – запомни, к среде! – не будет раствора, я тебя сам вместо бетона замурую в фундамент!» И что Петрович? Петрович через пять лет надел на лацкан пиджака высший по тем временам орден, а Федор Алексеевич валялся в больнице – нервное и физическое истощение. Разве она могла не быть рядом с такой глыбой? Не в масштабе дело – в характере. Мужик, говорил он, должен мять жизнь, как он мнет бабу, – с обреченной страстью; без этого рухнет жизнь… Как она могла не видеть бога в Федоре Алексеевиче?
Наталья Михайловна вновь приходила в себя… Перекошенные стены, пол… распластанное непослушное тело… И как только возвращалось сознание, так возрождалось сомнение… что есть жизнь до смерти? И что – вместе с ней и после нее? Открывала глаза… Федор Алексеевич исчезал. Перед глазами появлялся телефон. В проеме двери в коридоре на низкой полочке. Вот что. Надо двигаться. Это главное. Только вперед, по сантиметру, но двигаться; спасение – в движении…
Наталья Михайловна собиралась с силами и в самом деле начинала двигаться. Когда она хоть краешком сознания заглядывала в ту глыбь, где мерцал образ Федора Алексеевича, в ней исконно и истинно отвердевала воля к жизни; она подтягивала себя потихоньку на локтях, перетаскивая грузное тело сантиметр за сантиметром вперед… Останавливалась, отдыхала и снова работала, а потом в изнеможении лежала, опять и опять чувствуя, как душа вот-вот готова покинуть ее, насовсем воспарить над телом. В такие минуты Наталья Михайловна неожиданно чувствовала себя по-детски хитрой, смекалистой: затаённо замирала, ожидая, когда грузное непослушное тело вновь воссоединится с воспарившей над плотью душой…
А если ее вновь настигали видения, она отдавалась им легко и свободно, оставляла свое бренное тело распластанным на полу, улетая вместе с душой в закоулки и изгибы прошлой жизни. Когда-то Наталья Михайловна не понимала, что в огне любви к Федору Алексеевичу сгорит их дочь, а когда поняла – было поздно. Нина выросла незнакомым, непонятным существом, как будто прилетела с другой планеты, где мерки жизни были совершенно иные. Наталья Михайловна наивно полагала, что достаточно просто жить рядом с Федором Алексеевичем – и истина восторжествует, а Нина, оказывается, не только толком не помнила отца, но и считала его ненормальным, как ненормальным считала и время, взрастившее отца с матерью. Наталью Михайловну она вообще находила выжившей из ума деспотичной дурой; однажды так и сказала: «Знаешь что, мама, в проповеди своего времени ты похожа на деспотичную дуру!» – «Как это?» – не поняла Наталья Михайловна. «А так это. Дай тебе волю, ты бы всех нас заставила кирпичи таскать. Просто так. Есть машины, подъемные краны, техника – а ты бы все равно: таскать, только таскать! Вот так…» Наталья Михайловна тогда обиделась, хотя, честно говоря, обижаться она не умела, не понимала, что это такое. Просто сделала вид, что обиделась. Потому что не поняла Нину. И правильно, заставила бы таскать. Просто так таскать. Чтоб почувствовали: есть руки, мышцы, тело, кровь, работа. Смысл в этом – в работе. День за днем человек забывает, что он создан не для зарплаты – для работы. Человек потерял себя. Потому что не знает соли жизни. Сгори в работе – обретешь себя. Разве это такая сложная мысль? Почему она кажется Нине непроходимо глупой и опрощённой, эта мысль? Потому что Нина с другой планеты. За всю жизнь она никогда ничего не сделала своими руками. Как же она может понять мать? А тем более – отца? А тем более – все их время? «Да понимаю я, понимаю, – отмахивалась Нина, при этом морщилась, как от зубной боли. – Это ты не понимаешь – время изменилось. Понимаешь: вре-мя! Время!» И всегда все валила на это – «время изменилось». А чем оно может измениться в своей сущности? И в чем может измениться сущность человека? Если ты не будешь таскать кирпичи – все опустеет: и время, и человек. А как живет Нина? Так, как будто не было никогда никакого Федора Алексеевича, не было отца, не было пота, войны, смерти; знает – было, а душой не чувствует. Не берет в себя. «Не могу я тащить прошлое в себе! Не могу! – кричала она. – Я сейчас живу! Сейчас! Мне плохо и без твоего прошлого! Тошнит от твоих лозунгов. Ты хоть понимаешь, что я молодая, я жить хочу, жи-и-ить?!»
Наталья Михайловна приходила в себя, открывала глаза… Мрак в комнате не был таким густым, как прежде, и только поэтому она понимала, что ночь постепенно переливается в утро… Все на свете переливается одно в другое. Жизнь переливается в смерть. Смерть переливается в жизнь. Ничего удивительного, ничего страшного. Наталья Михайловна вновь приподнялась на локтях и хоть немного, но еще подтянулась вперед. Заветная полочка с телефоном была все ближе и ближе. Странное дело, Наталья Михайловна несколько свыклась со своим положением; то, что она лежала в полубеспамятстве на полу, проваливаясь в пустоту или вновь возвращаясь душой в бренное тело, вовсе не мешало ей жить – чувствовать, понимать, думать. Она всегда раньше считала, что человек может вполне оставаться самим собой при любых обстоятельствах. и вот теперь это подтвердилось. Она не чувствовала растерянности, страха; что она должна была чувствовать еще? Она ощущала себя человеком, даже под пятой судьбы ощущала это. Потому что ей нечего было бояться. Было, правда, бояться за что. За этот мир, за жизнь, которые когда-то выстроил Федор Алексеевич. Федор Алексеевич ушел, а мир остался. Вот это главное. И она уйдет. А мир останется. Но тут вопрос – надолго ли останется? Ведь после нее – всего лишь Нина. А рядом с ней – Скоробогатов. И детей у них нет. Нет у Натальи Михайловны внуков. Был бы хоть один-разъединственный внук, Наталья Михайловна исправила бы ошибку жизни. Нина сгорела в костре ее любви к Федору Алексеевичу, да, это ее вина, но внука бы она воспитала. Она представила его сейчас живым, реальным, белокурый, пыхтит, строит из кубиков дом… Наталья Михайловна улыбнулась. Как бы они стали жить с ним! Главное, улыбнулась она, она бы день и ночь была рядом с Федюшкой (так ей хотелось назвать внука); может быть, даже уехала бы с ним в деревню. Жили бы просто. Она бы день-деньской работала на дворе, в огороде, ходила в лес, Федюшка помогал бы во всем. Он должен своими руками строить жизнь. Колоть дрова. Носить воду. Чинить изгородь. Полоть в огороде. Копать картошку. Поливать капусту. Строить самокат. Любить лошадь. Скакать верхом. Варить уху. Ставить жерлицы. Он должен почувствовать, что без его рук нет жизни. Жизни не хватает именно его рук. «Ты бы всех заставила таскать кирпичи», – усмехалась дочь. Да, так – таскать кирпичи. Если ты ни разу не поднял кирпич – кто ты такой на земле? Федюшка – тот бы понял: он не потребитель. Он сам продвигает время вперед. И потащил бы кирпичи запросто. Потому что – если б Федор Алексеевич не выстроил в тридцатые машиностроительный гигант – какую бы сейчас дубленку таскала Нина? Он таскал кирпичи – а дочь таскает дубленку. Это разное таскание. А дочь этого не понимает. И надо же: Федору Алексеевичу было весело, легко жить, а Нине – трудно, нудно. Федюшка представлялся Наталье Михайловне оплотом ее мыслей. Мысли Натальи Михайловны никому не были нужны, она была никто в жизни, но благодаря Федору Алексеевичу она чувствовала себя центром мира; знала – мысли у нее простые, но точные. Если не Федюшка – то кто продвинет жизнь дальше? Разве Нина? Разве Скоробогатов? Тьфу на них!
Наталья Михайловна всерьез разозлилась и поползла вперед даже энергичней, чем раньше. Не чувствовала ни ног, ни поясницы, но как думала! Как ясно, четко она думала! Ползла вперед и все понимала в жизни, и, если б дали ей сейчас Федюшку, она бы не осрамилась, она знала, что делать с ним. Или она не смогла бы сделать свою, простую работу? Или она не смогла бы сделать, чтоб Федюшка тоже понял цену таскания кирпичей?
Правильно она тогда – перед разъездом – сказала Скоробогатову:
«Вы эгоист и бездельник! Да, да! Несмотря на ваш диплом, научную работу, должность! Вы обманываете всех – себя, жену, окружающих, будто что-то представляете из себя в жизни! Вы лжете! Вы бездельник, эгоист, трус и тряпка! Вон из моего дома!»
Господи, ведь точно сказала! И никто не понимает, насколько эта выжившая из ума бабка, деспотичная дура, заглянула в корень жизни. Кто услышит ее? Кто поймет?
Она знала, всегда отдавала себе в этом отчет, что Скоробогатов тоже нуждается в понимании. Но в каком понимании? Чтобы его, видите ли, пожалели. Мужика пожалели! Смешно, трагично, что взрослый мужик вымаливает сострадание! Ладно, Наталья Михайловна, может, и пожалела бы, но ведь претензии-то их к чему сводятся? К тому, что им якобы недодали! Как будто весь мир до них только для того и существовал, чтоб им жить теперь припеваючи да играючи.
«Вы только потребляете! Ведь палец о палец не ударяете! Не делаете и – самое страшное – не хотите ничего делать! Смотреть тошно!» – вот что она говорила дочери. А в ответ?
«Надоела, вот здесь сидит, – Нина показывала на шею, – твоя политграмота!»
Правда – это для них политграмота. Потребители! Как случилось, почему, когда, не поймешь, но ведь случилось, что ее дочь за всю жизнь ни разу ничего не создала, нигде ни в чем нет ее труда, так чтобы после нее был конкретный осязаемый результат: хлеб, деталь, мясо, шерсть, дерево, вспаханное поле; нельзя же в самом деле считать за труд просиживание рейтуз в НИИ! Просиживание в буквальном смысле, потому что Наталья Михайловна не раз видела, как Нина штопала исподнее (казалось бы – только купила, опять дыры). Зато каковы запросы! Джинсы, французские сапоги, турецкие халаты, ковры, машины, дачи, золото… Да откуда? Почему? За что, в конце концов?! Откуда такая психология: ничего не создаю – но дай мне все! А?! Ведь требуют от жизни всерьез! Как будто так и должно быть. Ох, потребители! Федор Алексеевич летучки в ватниках проводил, ездил в лимузине, не замечая его, бросил к подножию машиностроительного завода собственную жизнь – а они что?
Они – потребляют! Может, он слишком щедро одарил жизнь, так что нынче такие, как дочь и зять, могут только потреблять, ничего не отдавая взамен? Ведь абсолютно ничего! С Ниной это ясно как божий день, со Скоробогатовым – сложней, но только внешне; Наталья Михайловна раскусила его, потому что ни учеба, ни работа, ни ученая степень, ни должность – ничто не может скрыть в человеке, что внутри у него – пустота. Он оттого и мечется, оттого и жалкий, оттого и сострадания ищет, что отлынивает от своего природного предназначения.
«Кирпичи таскать?» – усмехнулась бы здесь Нина.
Да, кирпичи таскать! И нечего зубы скалить, несчастная потребительница! На тебе чья дубленка? Чьи джинсы на тебе, стерва? Чью ложку ко рту несешь? Как хлеб пахнет – знаешь? Или хотя бы что такое навоз – слышала?! «Кирпичи таскать…» Черт бы вас всех взял, потребителей!..
Наталья Михайловна заскрежетала зубами, стон вырвался из груди, вытянула вперед руки, сложила на них седую голову, решила полежать, отдохнуть. Из окна в комнату лился рассвет, слабый пока, густо-сиреневый, но все-таки… Ночь проходила в провалах сознания и памяти, в видениях и борьбе, иного выхода не было, тут тысячи жизней в себе проживешь, пока пробираешься к телефону, а внутри, несмотря ни на что, гнев полощет.
«Наталья Михайловна, дорогая, – сказал как-то Скоробогатов, в самом начале еще совместной жизни, – надо жить в мире, зачем нам ссориться, что делить, за что бороться?..»
Тогда она не ответила зятю, не сказала правды – только присматривалась к Скоробогатову, а сейчас бы выложила напрямую:
«В мире с вами жить, с потребителями? Не ссориться?! Да тогда от жизни одна навозная куча останется! Какой же толк от вас, кроме навоза? Не создавая – едите, не создавая – одеваетесь, не создавая – роскошничаете, не создавая – пьете, не создавая – дачи снимаете; и чтоб все вам самое лучшее, самое мягкое, самое модное, самое престижное, да при этом еще и сострадание вымаливают, смотрят жалобными глазами, в демагогию пускаются, чужих жен и мужей любят… Кто же вы?! Откуда?! И я должна с вами в мире жить? Я должна потакать ничтожествам, холуям и потребителям?
Накось, выкуси, зятюшка Скоробогатов!»
«Ты посмотри на себя, – сказала бы дочь. – Ведь дунуть – рассыплешься, а все шипишь, как змея…»
«Змея я для них… Для родной дочери змея. И для зятя змея. И буду змеей! Потому что я им правду говорю. Им правду некому сказать: они все одинаковые вокруг, ослепли, оглохли, только жрать им давай, дубленок, машин, – а что создали-то? А создает-то все еще моя двоюродная сестра Матрена во Владимирской области, в Петушках, с зарей встает и с зарей ложится, хлеб сеет, руки иссохшие, подбородок вваливается, глаза линялые, добрые, вопрошающие, в Москве-то всего два раза была, надивиться не могла – надо же, дома какие высоченные, как их только вздыбили, Федора Алексеевича вспомнила, говорит: эх, Федор-батюшка, Федор-батюшка, на что оставил нас одних, сиротеюшек, тяжко без тебя, ой тяжко… Так как же им правду не говорить?! Федор Алексеевич бился за жизнь, как лев, а она, Наталья Михайловна, должна молчать теперь, когда толстозадые дочери да толстомордые зятья рвут жизнь на клочья, как даровой лакомый кусок?!