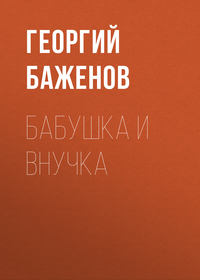Полная версия
Фанфарон и Ада (сборник)
– Мадам, не надо печалиться. В жизни всегда есть место для счастья, не правда, ли?
Красивая, быстрая, приветливая, находчивая, Нина на рынке считалась королевой продаж. Она продавала легко, непринужденно, с азартом и, главное, никогда не предлагала плохой или залежалый товар. Покупатели для нее – это всё, это смысл жизни, это лучшие друзья; она обожала и любила их, и они отвечали ей взаимностью. Хочешь стать первоклассным мастером в любом деле – должен быть всегда на высоте ожиданий клиентов; если ты честен, прямодушен и открыт – покупатели придут к тебе еще и еще раз, им важно и общение с тобой, и доброе словцо, и улыбка взаимного узнавания, и даже те маленькие тайны, которыми каждый делится с тобой, если доверяет, конечно. Как много уже она знала о своих клиентах, как много маленьких сердечных тайн открыли они ей, – разве она могла подвести их, нет, они всегда, всегда были для нее искренними друзьями, которых грех обманывать.
Так и прикипело к ней вместо имени возвышенное звание – «мадам Нинон». Нина не обижалась, наоборот – гордилась, что только у нее есть такое красивое звучное и знаковое имя!
В начале своей «купеческой» карьеры она летала за товаром то в Турцию, то в Индию, то в Китай, намучилась, пока научилась зарабатывать тяжелую трудовую копеечку, а ведь всё, всё приходилось делать самой: и покупать товар, и отправлять его на родину, и получать, и сортировать, и везти-нести на вещевой рынок, а главное – нужно было преодолеть тот стыд и стеснительность, которые поначалу захлестывали ее сердце. Кем она была? Завхозом в обычной школе, а Валентин Семенович – учителем литературы; и когда жить стало совсем невмоготу, она плюнула на все – заняла под большие проценты тысячу долларов и полетела в Индию. В то время очень хорошо «шли» шерстяные женские кардиганы и мужские свитера (каких только расцветок не было, каких только фасонов, все расхватывали на рынке, подчистую!). Да, было время, было…
А Валентин Семенович, бросив школу, с головой ушел в журналистику; не ожидал, что именно здесь найдет себя, что именно в газете откроет свое призвание: писать о жизни, а главное – иметь возможность выражать свое отношение к этой жизни. Ведь как мы живем? – в основном молчим (или перешептываемся на кухне), а тут можно было говорить правду (или то, что ты считаешь правдой) во весь голос, во всеуслышание. (Забавным оказалось то, что именно Валентин Семенович когда-то опубликовал в «Рабочей правде», – она еще так называлась, – цикл разгоряченных репортажей о «проклятых» спекулянтах, которые душат и губят народную жизнь.)
Сколько было споров, скандалов в семье по этому да и по другим поводам! У Нины – одна правда, у Валентина Семеновича – другая, она ему – десятое, он ей – двадцатое, – почти никогда не находили точек примирения, но жили, жили вместе… Парадокс был в том, что жить друг без друга они не умели и не могли, и только один человек – их сын Любомир – не мог понять, как это возможно. Его жизнь в семье (его внутренняя жизнь) была настоящим кошмаром: он рос молчуном, затворником, ростом удался высоким, а ходил сгорбившись, всегда с понурой головой, руки у Любомира неприкаянно висели, как плети, походка неуверенная, странная: когда он делал шаг вперед, то и обе руки одновременно уходили вперед (трудно и описать его походку). И как-то он бочком, бочком продвигался, а не шагал прямо и твердо. Главная его мысль была: «Нет, ребята, когда я вырасту, ни за что на женюсь. Жить как кошка с собакой? Клянусь – никогда!»
Но отгадка была в том, что «мадам Нинон» с Валентином Семеновичем жили не как кошка с собакой, а как кошка и собака. Каждый знал свое место, каждый находил свой сокровенный уголок-тайничок в доме.
– Нет, я все-таки не понимаю, не понимаю, – со всегдашней своей горячностью восклицала Лариса Петровна Нарышкина, – как ты можешь жить с такой женщиной?! Это прямо фурия какая-то, это…
– Не твое дело, – безучастно бурчал Валентин Семенович, раскуривая очередную папиросу. Он писал очерк на тему: «Мы – в ответе за природу. Тогда почему природа расплачивается за наше равнодушие?»
– Ты не хочешь разговаривать со мной?! – капризно продолжала Лариса Петровна.
– Не хочу, – бурчал Валентин Семенович, попыхивая папиросой. Мягкие его волосы, как всегда, рассыпа́лись на голове во все стороны.
– Ты не хочешь, а я тебе все-таки скажу: она тебе совсем не пара!
– Она мне пара. Очень даже пара. Пара, пара, пара… – Он говорил все это машинально, нахмуренно и сосредоточенно обдумывая очерк.
– Ты всегда отмахиваешься от меня! Как от назойливой мухи.
– Слушай-ка, ты, назойливая муха, – рассмеялся Валентин Семенович, – кто из нас учитель, а кто – ученик?
– Ты учитель, я – ученица.
– Ну так вот. Чего тебе надо? Я – занят. Я давно занят. Я стар для тебя. Я стар для всех. Мне никто не нужен. Я люблю свою «мадам Нинон». Я ее обожаю. Мой тебе совет: ищи себе достойную пару! Пока не поздно.
– Найдешь тут с вами. Не редакция, а сумасшедший дом!
Лариса работает в газете недавно, второй год, влюблена в Валентина Семеновича. Он для нее настоящий высококлассный профессионал, ас своего дела, к тому же опекает ее, учит умерять горячность и подходить к любому материалу с холодной головой, скрупулезно все анализировать, а уж только затем высказывать свое мнение. «От твоей позиции – правильной или неправильной – очень часто зависит жизнь человека, его судьба».
– Кстати, в кого мне здесь влюбляться?
– В главного редактора.
– Чего-о?
– А что? Очень даже, очень даже, очень даже… – машинально повторял Валентин Семенович. – Будет тебя двигать по служебной лестнице.
– Не нужна мне никакая лестница. Мне ты нужен!
– Я занят…
– Хочешь отделаться от меня?
– Хочу.
– А я тебе все-таки скажу: не пара она тебе!
– Да пара она мне! – неожиданно закричал Валентин Семенович, – пара! Да еще какая. Она – святая! Ты понимаешь – свя-та-я!
– Ты чего это? – удивленно-испуганно пролепетала Лариса.
– Ты попробуй поживи со мной! Это я здесь такой – а дома я зверь. Бросаюсь на жену по любому поводу, все учу ее, подучиваю, критикую, ругаю, злюсь, а она – святая! Все терпит, все прощает, а знаешь – почему?
Лариса ничего не ответила, только молча и недоуменно смотрела на Валентина Семеновича.
– Потому что она птица. Она птица высокого полета. Она все тащит в свое гнездо, это инстинкт такой, создавать гнездышко, тащить в него всякое перышко; а мы, мужики? Нам бы сделать только свое дело, прикрываемся природой: хотим женщину, потому что это инстинкт продолжения рода, и вот я сделал свое дело – больше меня ничего не интересует, гнездышко ее меня не волнует; мы и сами не знаем, мужики, что нам нужно. А ты догадываешься, почему мужики спиваются? Потому что не знают, для чего жить дальше. После того как сделали свое дело, оплодотворили самку, для них возникает загадка: что делать дальше, для чего дальше жить?
– Да ты философ! Только доморощенный, примитивный какой-то. Самки, гнездышки, перышки, загадки…
– А ты – сомнамбула! Дура!
…Эта «дура» впоследствии станет первым пером газеты «Народная правда». Когда Валентин Семенович с «мадам Нинон» уедут из поселка – в Саратовскую область, в город Балашов, где в свое время родился Валентин, – именно она, Лариса Нарышкина, напишет свой самый знаменитый и скандальный очерк «Бедолага». Про страшного человека Глеба Парамонова, который однажды спас тонущую на воде семью (лодка опрокинулась): мужа, жену и их маленькую дочь. А потом, на глазах у мужа, стал сожительствовать с женой, нагло, в открытую. Кончилось тем, что дочь осталась сиротой: сначала муж повесился, потом жена, а дочь попала в детский дом. Один Глеб Парамонов продолжал жить как ни в чем не бывало: для него статьи в уголовном кодексе не нашлось. И вот прозвучал наконец живой голос Ларисы Нарышкиной (это и был голос общественности): до каких пор мы будем терпеть откровенное издевательство над всеми нашими моральными нормами? когда наконец мы сможем защитить себя от негодяев и подлецов, которые растаптывают нашу жизнь, убивают отцов, матерей и плодят вокруг сирот?! Где ты, Закон? Где ты, кара и справедливость?
Марьяна вернулась в поселок ровно через три года. Вернулась, словно и не было никакого тёмного прошлого. Только в глазах ее, в серьезных взыскующих глазах, будто затаилась какая-то грустинка, которая, как, малое зернышко, посверкивало иногда из глубины зрачков.
– С нашим государством шутить нельзя, – часто повторяла теперь Марьяна. – Или ты его, или оно тебя. Середины не бывает.
Что стояло за этими словами, мало кто понимал. Но на работу в ЖЭК ее взяли; правда, не бухгалтером, а так – посадили на телефон, принимать разные заказы и претензии от граждан. Потом время шло, еще шло, портрет Марьяны повесили на Доску почета, потом сделали секретарем начальника, со временем начальник вновь перевел ее в бухгалтерию и в конце концов назначил главным бухгалтером. Не прошло и полгода, как она вернулась.
Но не это интересно.
А интересно то, что то поклонение, которое она испытывала (правда, иногда с насмешкой, иногда с насмешливой издевкой) к своему мужу Муртаеву Алиар-Хану, это поклонение не только продолжилось, но еще более усилилось. В поселке давно никто всерьез не относился к проповедям Алиар-Хана, считали его за чудака (если не хуже), который годами сидит около своего мешка семечек и проповедует постулаты дзен-буддизма. (Кстати, деньги мужу и сыну на пропитание присылала из Сибири Марьяна; как это она умудрялась, никто не знал.)
А отчего поклонение-то? Откуда? С какой стати?
А от того, что все эти три года верный своему природному долгу Алиар-Хан Муртаев продолжал жить с сыном, кормил его как мог, а главное – учил Павлушу просветлению и азам дзен-буддизма. Как учил-то? Просто повторял и повторял каноны, не заставляя учить их или запоминать (мальчик еще был слишком мал), просто бубнил их, сидя рядом с большим мешком семечек, около которых всегда вертелся маленький Павлуша. Что-то в повадках Павлуши было восточное, он мог долго не отвечать на вопросы, которые задавали ему приходящие к Алиар-Хану паломники, а задавали они самые незатейливые, самые неглубинные вопросы, и Павлуша смотрел на прихожан так, будто они малые глупые дети, недостойные ответа, но уж когда наконец отвечал, то звучало это примерно так: «Сам, сам загляни в глубину заданного вопроса!» – или: «Никогда, никогда не вопрошай попусту, о невинный и почтенный дервиш!» – или: «Устанешь идти – становись быстрокрылой птицей!». Мало кто понимал, о чем говорил Павлуша, но слова его воспринимались как откровение, как примерно то, о чем часто взрослые говорят: «Устами младенца глаголет истина».
Марьяна узнавала и не узнавала своего сына (да и как было узнать, когда ему исполнился всего год, когда они расстались), но истинно благодарила своего верного мужа Алиар-Хана Муртаева за то чудо, которое он сотворил с маленьким Павлушей. С тех пор, как она крепко, даже крепко-жадно обняла сына после столь долгой разлуки, она больше, казалось, не отходила от него ни на шаг, он постоянно теперь был рядом с ней и не просто рядом – она всегда цепко держала его ладонь в своей руке, не отпускала ни на минуту. Куда она – туда и он, куда он – туда и она, словно боялась, что в любую секунду, в любое мгновение ее ждет новое расставание. А это просто немыслимо, невозможно представить…
Эта чудная картинка изумляла всех, кто сталкивался с их семьей: сидящий около мешка семечек Алиар-Хан Муртаев и Марьяна с сыном за руку (всегда, всегда за руку его держала) – даже когда в ванную уходила, тоже держала за руку; и даже когда спать ложилась, то ложилась не рядом с Алиар-Ханом (ну пусть и он иногда будет рядом, только с другого боку), а именно вплотную к Павлуше, судорожно держа его за руку. Причем это продолжалось и в четыре года, и в пять лет, и в шесть, и в семь, и даже в десять, и даже в одиннадцать. И куда бы она ни шла, где бы ни была, Павлуша должен быть ее частью, ее продолжением, и он так привык к этому, что, несколько повзрослев, называл ее не «мама», а – «матрица».
Когда она стала главным бухгалтером, то в знак благодарности взяла в помощники, т. е. своим заместителем, никого иного, как Муртаева Алиар-Хана, он ничего не понимал в бухгалтерии, но это не имело значения, он просто числился работником и регулярно получал деньги в кассе в день зарплаты; в знак благоговения перед восточным происхождением мужа Марьяна охотно брала на работу дворниками именно киргизов (со временем они появились даже в нашем поселке, как и по всей шири родного отечества), причем именно киргизов выделяла, платила сполна и исправно, а вот других, включая и русских, могла легко обвести вокруг пальца.
В конце концов Муртаеву Алиар-Хану все надоело, а может, просто-напросто засиделся он на одном месте, а может, показалось ему, что не он теперь центр земли, а Павлуша, а может, иссякли в своем потоке его прихожане, – к тому же надоело быть одиноким в постели при живой жене (Марьяна отвыкла от него), – много всяких причин или предлогов найти можно – но главное было: исчез Муртаев из нашего поселка. Как появился внезапно, так и исчез, подарив Марьяне вундеркинда Павлушу.
Павлуша озадачивал многих; даже друзья Марьяны, которые, казалось бы, всегда были рядом, и те изумлялись красноречию и необычным афоризмам Павлуши. Его логике. Его тягучим медленным заунылым речам.
– Ну чего ты мать зовешь «матрицей»? – не раз в удивлении спрашивала Павлушу самая близкая подруга Марьяны – Ада Иванова.
– Вы понимаете, тетя Адель, чтобы ответить на этот сложный вопрос, надо многое в жизни узнать и понять.
– Например?
– Ну, например, вы должны задуматься: а что такое «матрица» вообще. Вы представляете значение этого многогранного слова?
– Ну, как тебе сказать. Матрица – это… это…
– Вот именно, дорогая тетя Адель: «Матрица – это…». Тут многие запинаются. А матрица – это нечто такое, что является формой, даже сутью продолжения рода. Матрица как бы отливает через себя себе же подобных, клонирует свое природное предназначение. И таким образом я напрямую являюсь клоном своей матери, и потому в знак глубочайшего уважения к ней и в знак понимания сути вопроса я никак не могу называть ее «мама», – она высшее, сложное, многогранное для меня существо, она – «Матрица». Понимаете теперь?
Ада Иванова только недоуменно пожимала плечами, ну а потом, в силу своего веселого характера, начинала хохотать, повторяя: «Нет, я дура, наверное, дура полная, ничего не понимаю в жизни…»
Вундеркинд Павлуша, в знак согласия, слегка, а именно по-восточному, склонял голову, как бы отпуская уважительный поклон: может быть, может быть, тетя Адель…
Или, например, Кирилл часто возмущался, когда вундеркинд Павлуша, казалось, ни к селу, ни к городу повторял одну и ту же фразу: «Аб семечко, аб семечко…»
– Так и я могу – постоянно повторять слова одного древнего мудреца: «Знай же, что на Землю огонь доставлен впервые молнией был…» Именно в этом суть вековечной тайны жизни – в молнии, ибо от молнии родился огонь, от огня родилась жизнь.
– По-вашему выходит: не «Аб семечко», а – «Аб огонь»? А вы хоть знаете, дядя Кирилл, что обозначает латинское изречение: «Аб ово» («АЬ ovo»)? Должен доложить Вам, уважаемый дядя Кирилл, оно означает: «От яйца». Мой отец, почтенный Алиар-Хан Муртаев, всегда говорил: глубочайше ошибались римляне, не от «яйца» пошла-потекла жизнь, а от – «семечки». Ибо что такое яйцо? Это биологический продукт животного происхождения, а животные, как Вы, вероятно, догадываетесь, обожаемый дядя Кирилл, появились на Земле гораздо позже всего истинно сущего на нашей планете. «Семечко» гораздо более древний движитель-организатор жизни, включая и вопрос происхождения жизни, и если Вы истинно ученый человек, дядя Кирилл, Вы должны согласиться: не «аб ово», а – «аб семечко», то есть не «от яйца» все началось, а «от семечки». Семя – вот начало и продолжение загадки жизни, без семени и яйца бы не было, да и огня – тоже, ибо огню же не на чем было бы возжигаться.
– Тарабарщина какая-то! – махал рукой Кирилл, но на это и на другие возражения многих людей, которые вступали в словесную схватку с вундеркиндом Павлушей, у него был окончательный, сногшибательный довод-аргумент. Причем довод в виде вопроса:
– Итак – «Моритури тэ салютант»?
– Это еще что такое? – изумлялись оппоненты Павлуши, а он терпеливо и многоречиво объяснял:
– Когда-то Цезаря так приветствовали гладиаторы: «Идущие на смерть приветствуют тебя!» (Ave, Caesar, morituri te salutant!») К чему я это говорю, достопочтенные мои друзья? А к тому, что, уходя от спора с истиной, вы уходите в небытие – в небытие познания смыслов жизни, просто-непросто вы уходите в смерть, так и не разгадав глубочайших тайн жизни. И ваше махание руками обозначает одно, а именно вот что: вы уходите в смерть, так и не подружившись со смыслами и тайнами сущего. Вы просто и покорно уходите в смерть, не сопротивляясь, не думая, не рискуя, не ропща, вы уходите туда многоотрядными и бестолковыми толпами, при этом успев-таки попрощаться со мной: «Идущие на смерть приветствуют тебя, о, дорогой Павлуша!».
Ну, и так далее и тому подобное…
Вообще-то Ада с Кириллом жили самым распрекрасным образом. В принципе им было глубоко наплевать, что там глаголет молодой вундеркинд Павлуша, как наплевать и на тех и на то, что о них вообще говорят и судачат.
Электрик Кирилл был выше любых интриг и сплетен.
Он и в физическом смысле оставался самым высоким среди всех, кто окружал его. Ему не нужно было ничего делать, чтобы понравиться женщинам. Ему нужно просто-напросто одно – быть. И этого достаточно. Хотя, вы не поверите, но он страдал от этого. Он не успевал всмотреться в женщин, разглядеть их, понять – хорошие они или плохие, вздорные или покладистые, нужные ему или совсем чужие; куда бы он ни вышел, где бы ни был, все женщины, буквально все, не сводили с него глаз, и не только ростом он брал, но и особой импозантностью, статью, даже надменным неприступным видом (но это только казалось; надменным он не считал себя, неприступным – тем более). К примеру, ты еще только идешь, а на тебя уже обратили внимание десятки женских глаз, ты ни о чем таком не думаешь, не мечтаешь, не настроен сегодня ни на что, но из множества глаз тебя обязательно выберет самая смелая женщина, и эта смелая всегда оказывается самая красивая; она просто-напросто подходит к тебе, знакомится, берет за руку и уводит жить к себе. Ей кажется, она уже не может без тебя, да и без того не может, чтобы не похвастаться перед подружками, какой у нее появился высокий статный необыкновенный мужчина, и ты как сомнамбула, как баран идешь на заклание. Гуляешь ли ты по улицам, едешь ли в автобусе, или вот выбрался из автобуса и подошел к пораженному молнией тополю – рядом с тобой, тут как тут, оказывается волевая красивая женщина, которая говорит с тобой бог знает о чем (это для нее неважно), главное – обязательно берет тебя за руку и ведет жить к себе.
Что для них рост мужчины? Это что-то сакральное, необъяснимое, это как знак, как залог того, что потомство будет наивысшего порядка и смысла, это тяга к тому будущему, в котором все люди будут красивые, статные, высокие, дородные. Это выбор самки, которая жаждет лучшего продолжения себя и своего рода.
Однако Кирилл глубоко страдал от этого, как страдает агнец на заклании.
Он мечтал (вы не поверите!), чтобы жизнь как-то так извернулась, что он оказался бы маленького роста. Потому что высоких – выбирают и забирают сами женщины, волшебным образом, а маленькие, неказистые, чуть не с карандаш ростом – те сами присматриваются к женщинам, приглядываются, оценивают и начинают измором брать крепость. У них нет проблемы: тебя – выбирают, а не ты – выбираешь. Они, конечно, тоже мучаются, потому что выбранные ими женщины артачатся, закатывают глаза, оскорбляют и унижают тебя («Тоже мне, Наполеон нашелся!»), даже когда идут под руку с тобой – все равно глазеют по сторонам, что-то им все не так и не то (а то и стыдновато бывает перед подругами), но все-таки ты хозяин положения, ты сам взял эту женщину, ты ее завоевываешь, ты можешь гордиться собой.
Ничего такого не дано было нашему Кириллу. Уже пятеро детей росли от него у неких молодых красивых волевых женщин (правда, все ли они от Кирилла, даже женщины не знали), и, если уж Кириллу никакого дела не было до своих детей, то какое ему дело до Адиного сына Егорки, а тем более – до ее бывшего мужа Захара?
* * *«Ты должен понять: я больше не могу так жить!» – «Как?» – «Постоянно подозревать, что ты мне изменяешь!» – «Я?!» – Роман простодушно округлил глаза. – «Ты даже спать со мной перестал». – «Как же я буду спать, если ты ложишься отдельно?» – «Потому и отдельно, что не могу переносить твои измены». – «Какие измены? С чего ты взяла? Что ты выдумываешь?» – «Роман, я не знаю, что с тобой происходит, но я чувствую – ты совершенно остыл ко мне. Я тебе не нужна. Антошка не нужен. Тебе, оказывается, никто не нужен. Только девки твои, которых ты раскатываешь на автобусе.» – «Да я работаю! Причем тут – «раскатываешь». О чем ты говоришь?» – «Думаешь, я не знаю? Думаешь, я слепая? Когда я возвращаюсь из города, тебя никогда нет дома. А раньше ты меня ждал, готовил ужин, накрывал стол свежей скатертью, ставил вазу с цветами». – «Да мне сейчас приходится в две смены работать. Напарник заболел». – «Или напарница? Приболела там, а ты ходишь, ухаживаешь за ней, постельку мягкую стелешь?». – «Да что ты выдумываешь?! Какая напарница? О чем ты?». – «Короче, дорогой, ты должен знать: я подаю на развод».
Избушка Азбектфана, покосившаяся, почерневшая, изъеденная короедом, спряталась в сосново-еловом буреломе, невдалеке от Бобриного омута и реки Полевушки. Останавливались в ней нынешние путники редко, опасаясь, как бы в какой неурочный час она не завалилась и не накрыла их смрадным прахом. Вот и Егорка, самый любопытный среди друзей-пацанов, даже он побаивался в одиночку открывать скрипучую, покорёженную дверь, да и летучая мышь могла оттуда выпорхнуть, обдав тебя пылью и затхлостью; а вот вместе с отцом, с Захаром, Егорка смело заглядывал в избушку и даже забирался на скрипучие, прогнившие полати, зная от отца, что когда-то на этих полатях устраивал свое лежбище загадочный и страшный старик – Азбектфан. Ходили о нем из глубины времени тяжелые слухи, что не просто лесником он был и сторожем, а прятался здесь от своих несмываемых грехов. Будто не одну душу загубил, и не только в военное лихолетье, а и позже, в мирные годы, и все из-за какой-то грешной любви. Каких только легенд не ходило в поселке об этом загадочном старике, одни защищали его, так как грехи его были связаны с роковыми страстями – любовью, а другие плевались, услышав его имя, потому что душегуб он и есть душегуб: из-за него невинные люди погибли, да и немало этих людей, а сам он, виноватый во всех смертных грехах-наваждениях, выходил из передряг чуть ли не герой.
Захар с Егоркой устроили себе костерок поблизости от азбектфановой избушки, варили наваристую уху из окуней и ершей; не раз и не два устраивались они здесь, когда Егорка прибегал к бабушке Тоше – повидаться с отцом, и вот почти в каждый приход Егорки они заросшей тропой пробирались к избушке Азбектфана, словно воскрешая его дух, потому что и раза не было, чтобы Егорка не расспрашивал о нем у отца, а потом уходили подальше от Бобриного омута, к реке Полевушке, ловили в ней откормленных сизых пескарей и расставляли по берегу жерлицы: тут пескарь для насадки живца идет первым номером. Щука на пескаря жадная, потому что он долгоживущий и юркий, как угорь, – щуке только это и надо: чтоб пескарь сверкнул боком, ударился в бега – тут она хвать его, и застрял бедняга вместе с тройником в зубастой пасти безжалостной охотницы.
Говорили о том о сем, о чем только не переговоришь за долгую ночь у живучего костра, а тут как-то Захар вспомнил, хлопнув себя по лбу:
– Слушай-ка, ты все время про Азбектфана спрашиваешь. А у меня ведь книжка про него есть.
– Про Азбектфана?
– Ну да. Там, на Красной Горке, у матери Тоши. Книг-то у меня навалом разных, сам знаешь. Я все читаю, и налево, и направо, и вдоль, и поперек, а тут запамятовал. Точно, есть такая книга. Вроде и название у нее: «Ловушка для Адама и Евы».
– Про Азбектфана? Об избушке? О наших краях?
– Ну да. Нет, как-то она по-другому называется… Ага, вспомнил: «Огонь небесный». Там один наш писатель, уральский, да что уральский – наш, местный, забыл его фамилию, он родом-то из нашего поселка, только теперь далековато живет, чуть ли не в Москве, вот он и написал про Азбектфана. Всё в подробностях, чин чинарем. Так и назвал книгу: «Огонь небесный». И собрал там разные легенды, были, мифы. Ну, и про Азбектфана нашего тоже.
– А ты не напутал случайно?
– Точно говорю. Сам знаешь: о чем мудрый Захар сказал – то и проверять не надо! Запомни, сынок!
– Вот, хочу вам почитать кое-что, – показал Егорка на книгу.