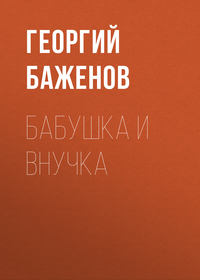Полная версия
Слово о неутешных жёнах (сборник)
– Ну, извини, извини, Николай Ефимович, в другой раз знать будем… Хотели как лучше. Тебя ждали.
– Ну да, ждали меня, а подваливали к Дуське!
– Слушай, ты чокнутый какой-то, ей-богу. Да тебя ждали, тебя. Ты нам нужен был.
Коляй и тут не поверил, но ничего не сказал, хмурился, ждал, что скажет Павлуша Востриков дальше.
– Понимаешь, мы к тебе с просьбой, Николай Ефимович. Помоги нам!
– Я – помоги? Не понимаю!
– Сейчас поймешь. Только не удивляйся. И в бутылку не лезь.
– Ну-ну…
– Илья Степанович, с которым мы тебя ждали, он ведь геолог.
«Еще бы, с такой-то бородой… – усмехнулся про себя Коляй. – Тоже к Дуське примеривался».
– Из областного геологоразведочного управления он, – продолжал Павлуша Востриков. – И нужно ему было побеседовать с тобой.
– О чем это?
– Вот тут самое главное. – Востриков помедлил. – Только ты не думай, я сам в это не верю. Но слухи есть слухи. Одним словом, ходит легенда, будто у отца твоего было золото. Три слитка.
– Да глупости это! – в сердцах махнул рукой Коляй и даже затосковал от дальнейшего разговора.
– Да знаю – глупости. И Илья Степанович знает – глупости. Тут важно другое: края-то наши богатые, уральские, шахт тут у Демидова много было, приисков, золотишко водилось… И вот идея такая возникла: может, у отца твоего бумаги какие сохранились, чертежи, планы, наброски, карты? Ну, что-нибудь вроде этого… понимаешь?
– Ничего у него никогда не было!
– Скорей всего – не было. Верю. Все тебе верят. Чего ты! Но они же геологи, они версии всякие проверяют – вдруг в легенде есть доля правды? Ведь не с кем-то, а с твоим отцом легенду связывают!
– Мало ли кому и что в голову взбредет!
– Не кипятись, не обижайся, Николай Ефимович. Нет ничего, значит, нет. А помочь государству в случае чего мог бы и ты. Ты в государстве не последний человек, сам знаешь…
«Чего это я знаю?..» – удивился Коляй.
– И просьба к тебе самая маленькая. Человеческая. Поговори с матерью, Татьяной Ивановной. Вам-то эти бумажки не нужны, ну, если вдруг завалялись где, а геологам ой как помочь могут!
– Да нет ничего, нет!
– Но поговорить ты с матерью можешь? Тебе-то, как родному сыну, у нее веры больше. Нет, значит, нет. О чем разговор. Но, может, она сама не знает: валяются бумажки, а ей и в голову не приходит, что это важные документы.
– Какие там документы? Я же вырос на Красной Горке, родной-то свой дом знаю.
– Одним словом, по-человечески спрашиваю, Николай Ефимович, можешь поговорить или нет?
Коляй почесал в затылке. Поговорить нетрудно, хоть и неохота. Но если о государстве речь, о государственной пользе, тогда, конечно… о чем и спорить.
– Ладно, поговорю, – буркнул он. И на этом разговор исчерпался.
В этот день, в субботний вечер, Дуся истопила баню. То ли она почувствовала слабину Коляя, то ли просто надоело играть в молчанку, но Дуся возьми и скажи ему:
– Париться-то первым пойдешь? Или после нас?
Коляй не ответил, даже не взглянул на жену, но вдруг почувствовал, как душу захлестнуло теплом от этих обычных человеческих слов, теплом, ноющей сладостью и отравой. Чтоб не выдать себя, он даже отвернулся, закурил, а Дуся обиженно скривилась и хмыкнула:
– Ну-ну. Давай сиди пнем, кисни.
Она вымыла сначала Гошика, потом ушла мыться сама вместе с Дуняшкой. Коляй подошел к Тошкиной кровати, хотел поговорить с сыном – тот замертво спит. Чистая румяная щека блестит глянцем, дыхание ровное, едва слышное, а кулачок сжимает, будто боится отдать какую-то тайну. Коляй постоял над ним, поулыбался, а когда Дуся с Дуняшкой вернулись, ни слова не говоря, вышел на зады огорода. Там и темнела банька.
Камни еще не остыли. Воды в котле на три четверти. В предбаннике – двухведерная кадка холодной воды. Скинул с себя Коляй одежду – и скорей в жаркое нутро бани. Окатил камни водой – пар пошел густой, терпкий. Коляй забрался на самый верх полка и долго сидел – блаженствовал, истекал потом. Затем взял веник – березовый вперемежку с пихтой – и пошел хлестать себя, и пошел… Окатился холодной водой, охнул – и снова забрался на полок, лег навзничь и лежал, истекая потом по второму разу. Слышно было, как хлопнула дверь в предбаннике; Коляй понял – Дуся принесла ему чистое белье, полотенце. И думал теперь о ней спокойно, без надрыва, без злобы – будто что-то сдвинулось в нем, открылась какая-то вьюшка и скопившийся пар бабой-ягой вылетел на помеле в трубу. Об этой бабе-яге Коляй сам подумал, сам догадался – и вот надо же, улыбнулся. Эх, дурак же ты, дурак… Понял Коляй теперь, что ведь Востриков, будь он неладен, приходил со Степанычем по делу, а он Бог знает чего накрутил… можно ли так? И мужиков обидел, и бабу изругал, и сам чуть Богу душу не отдал… Коляй провел ладонью по шее – да, шрам хорош, спасибо, жив остался. Коляй чуть рассмеялся – весело, отходчиво.
Вернулся из бани – на столе праздник. И картошка рассыпчатая, и очищенная соленая рыба, и квашеная капуста, и крупно порезанное сало, и огурцы с помидорами, и рыбные расстегаи, и любимые его шаньги, и моченая брусника, и холодный квас в крынке, а в центре – полная сковорода отборных мелких жареных маслят.
Дуняшка умаялась за день, давно спала рядом с братцем; сидели за столом вдвоем. Самое главное – в первый раз улыбнуться друг другу.
Улыбнулись, конечно…
Ночью Дуся горячо шептала Коляю, что, когда пришли эти, двое-то, Востриков да Илья Степанович, она сразу смекнула что к чему. Они – про золото, а она им – знать ничего не знаю. Так им и сказала, разбежалась… Если что, оно нам самим нужней будет…
– Да какое золото-то, ты что? Нет никакого золота, – прощающе шептал Коляй.
– Ну, нет, нет… Конечно, – соглашалась Дуся. – Нечего и шастать. А то придут: золото, золото. Так мы им и сказали…
– Дусь, ну ты в самом-то деле! Ты мне веришь или нет?
– Кому еще верить-то, если не тебе? – целовала его Дуся в шею, в шрам. – Но если что, я у тебя верная жена, Коляй. Я про золото никому, ни-ни…
– Вот же гадство! – неожиданно даже для самого себя тихо-восторженно рассмеялся Коляй. – И далось всем это золото…
– Ты чего смеешься-то? – насторожилась Дуся.
– Ладно, спи, – сказал Коляй. И покрепче обнял жену.
Дня через три Коляй с делянки пошел не домой, а к матери на Красную Горку. Мать приболела, лежала в постели. Не на печи, как обычно, а внизу, на «диване», как она называла широкую лавку с резной спинкой и с резными же, по краям, подлокотниками. «Диван» этот срубил топором без единого гвоздя еще отец Коляя – Ефим.
– Ты чего это лежишь? – весело проговорил Коляй. – Иль помирать собралась?
– Да нет, что ты. Кости вот ломит. Думаю, дай отлежусь, оклемаюсь…
Увидев сына, старуха поднялась с «дивана», лицо ее разгладилось от морщин, глаза осветились думой, заботой.
Коляй подхватил топор, вышел во двор.
– Куры-то у тебя скоро совсем в лес убегут, – услышала мать его голос.
Услышала, выглянула к сыну в окно.
– Убегут, убегут, – согласилась. – Будто знают, что гоняться за ними не молодуха.
Коляй брал зелинку за зелинкой, каждую вострил на чурбаке с двух сторон. Потом стал заделывать дыры в заборе.
Мать вынесла ему холодной свекольной паренки. В Северном – там бабы больше хлебный квас варили, а вот на Красной Горке – свекольную паренку. Можно сказать, Коляй на ней и вырос – военные-то годы, каждый помнит, голодные были.
– Веселый ты стал, справный! – порадовалась за сына старуха. – Наладил жизнь-то?
– Все нормально, мам, – улыбнулся Коляй.
– И то хорошо. Гошка, Дуняша как?
– К тебе завтра собирались.
– Ну и ладно. С Дусей помирились?
– Живем, дышим.
– Эх, Дуська, Дуська, знала б, с каким золотом живет, сама серебром бы стала.
– Э, мам, ты чего… Дуська – баба с норовом, да и я не простак.
– Ох, не простак! – хрипловато, будто мелко закашляла, рассмеялась старуха. – Да живи ты с ней, живи, детей подымай, а только как хомут надевать будут – шею-то особо не подставляй.
– Ей-богу, не пойму, чего бабы не поделят друг с другом?
– Коляй присел на крыльцо, заглянул матери в глаза, полез в карман за куревом.
– Да что ты! – старуха махнула иссохшей, в ветвях сухожилий рукой. – Живите сто лет. А на сто первый меня похоронить не забудьте!
Коляй рассмеялся.
– Отчего это старый человек – умный, а молодой – глупый! – удивлялся он.
– Оттого что старый человек – старый, а молодой – молодой, – ответила мать.
Тут они рассмеялись вдвоем, хорошо рассмеялись, по-доброму.
Когда мать кормила его ужином – терпкий холодец с горчицей да круто заваренный чай, куда брошен брусничный лист, – Коляй и закинул удочку:
– Слушай, мам, давно хотел спросить у тебя…
– Ну-ну, ответ-то позже вопроса летит.
– Все какое-то золото нам приписывают…
– Ох, да глупости! – отмахнулась старуха.
– Нет, постой, – Коляй и есть перестал, – я, когда маленький был, тоже про золото слышал. Отец с тобой говорил.
– Золото-то золоту рознь. Это когда было? Когда рак на горе еще не свистел.
– Значит, было золото-то? – удивился Коляй.
– У кого – было, а у нас – не было.
– Не пойму, – пожал плечами Коляй.
– Чего тут понимать – не было у нас с отцом никакого золота. В годы-то, когда ты еще не родился, отца из-за этого золота чуть пулей не порешили. Подавай демидовское золото, и все тут!
– Где его взять-то, если нет? – подыграл Коляй матери.
– В том и дело. Слышали звон, да не знают, где он.
– А в чем звон-то?
– Да в том, Коляй ты мой глупенький, что золото было у деда нашего, твоего прадеда, Прокопия Прокопиевича Комарова.
– Вот так да! – воскликнул Коляй. – Было все-таки?
– А как не быть-то, – сказала мать. – У него и золото водилось, и многое чего другое тоже. Он же золотоискатель у нас первый считался…
– Так-так…
– Чего «так-так»? Пришли однажды из-за Азов-горы лихие люди, деду голову проломили, дом-пятистенок спалили, золото да другое богатство – с собой, а там и были таковы. Весь и звон-то.
– Интересно, – покрутил головой Коляй. – И ведь никогда мне не рассказывала.
– Не спрашивал – и не рассказывала. Да и золото – грех о нем говорить. Деньги людей портят, душу растлевают.
– Выходит, я правнук золотоискателя?
– Выходит, так.
– Надо же! – Коляй присвистнул. – А у меня никакой его жилы. Ну, не ворожит меня золото, и все тут. Вот же гадство!
– В чем и счастье твое.
– Да, история… Ох, прадед! Ох, сукин сын! Дела творил – а нам теперь аукается.
– Крутой старик был. Крутой, – покачивала головой на тонкой морщинистой шее старуха, будто соглашалась с сыном.
– А бумаги какие остались?
– Зачем тебе? – насторожилась мать.
– Да геологи интересуются. Шахты будут обновлять, прииски. Может, что пригодится.
– Бумаги какие были – те огнем в трубу вылетели. Когда отца стращали, тогда и бумаги сгорели. Полный сундук был – вместе с сундуком все огнем изошло.
– Точно, мам?
– Ну, ты еще спрашиваешь.
– Кабы меня на век назад воротить, интересная штука – кем бы я был, а? – почесал лоб Коляй.
– Да дурачком бы и был, – простецки разрешила вопрос старуха.
– Ты что, мать?
– А чего? Дурачок-то – он первый человек на Руси. Иные все на нет исходят, а на нас земля держится.
Пили они чай до поздних сумерек, до вечерней звезды. Хорошо им было вдвоем, нам бы там посидеть…
А дальше потекла у Коляя жизнь прежняя, налаженная. Утром чуть свет – на работу, вечером – домой. Работа всегда была ему в радость; она лечила его, иной раз вознося душу на такую высоту, что Коляй стыдился этого. Усталый, опустошенный, возвращался домой, ужинал, а потом до ночи возился по хозяйству. Верным помощником отца был Гошик, Дуняшка помогала ему с меньшей охотой.
Баню, как и прежде, Коляй топил теперь сам. Таскал из Чусовой воду, заливал в кадки, нагревал котел, распаривал веники, скреб пол от грязи и копоти, выветривал лишнюю влагу…
Борова к ноябрьским решили заколоть, а Стешу оставить. Пудик – другой боров должен был еще нагулять, поэтому отруби Коляй покруче замешивал с картошкой; толок в ведре все это так, что боров не замечал, как и ел. И все время был голодный…
Стешу Коляй жалел, ухаживал за ней особенно нежно. Не было дня, чтоб он не убрал у нее, не подстелил свежей соломы, не подмыл бы у нее вымя.
Как-то раз Коляй заметил, что куры стали нестись хуже. Разгадал загадку только тогда, когда за сараем в крытом ящике нашел камень-гальку, цветом и формой напоминающую яйцо. В этот-то ящик и неслись куры. Не стал Коляй следить, кто таким способом приваживал кур (и без того знал – Маруся, конечно), гальку выбросил, а ящик убрал в сарай.
Частенько Дуся с Марусей задумывали теперь новые наряды, и Коляй не скупился, давал на наряды деньги. А что ему деньги? Деньги – рабские оковы для миллионера, а для рабочего человека они необходимость. Будет счастлива Дуся – будет и Коляй счастлив, и Дуняшка, и Гошик…
Гошик – молодец, не отходил от отца ни на шаг. Дуняшка – та нет, последнее время сторонилась отца.
Однажды Дуся сказала Коляю:
– В магазине демисезонные пальто выбросили. Как раз мой размер.
– Да? Ну, что ж… – ответил Коляй.
– Сто рублей есть, – продолжала Дуся. – Дай еще двести.
– Двести? Да у меня нет, – признался Коляй.
– Ну да – нет! – не поверила Дуся. – Опять жаться стал?
– Честное слово, нет, – поклялся Коляй.
– Тогда у матери возьми. У нее денег много.
– Откуда?
– Ладно зубы заговаривать… А о золоте забыл?
– Да ты что, Дусь, всерьез?
– А чего тогда милиционеры шастали… геологи разные… начальство? Дыма без огня не бывает.
– Я же тебе объяснил…
– Знаем ваши объяснения! На золоте живут, а щи деревянной ложкой из худой кастрюли хлебают. Куркули!
Коляй потемнел лицом, стиснул зубы, желваки заиграли на скулах.
– Не скрипи зубами-то, не скрипи! Не страшно! – все более высоким и визгливым голосом стала кричать Дуся.
Чтоб не разругаться и чтоб не случилось новой беды, Коляй развернулся и хлопнул дверью.
И пошел к матери. Денег у старухи Татьяны не было, но двести рублей она дала. Из заветных трехсот рублей выделила, которые отложила давно на черный день, на смерть свою и похороны.
Коляй принес деньги домой, швырнул на стол:
– На, подавись!
– Вот так-то лучше… – усмехнулась с презрением Дуся.
Утром с Дуняшкой случилась истерика. Коляй собрался на работу, есть не стал, хмурый, молчаливый, хотел было уже выйти из дома, как Дуняшка подскочила к нему и начала отчаянно колотить его острыми кулаками в грудь:
– Ненавижу! Ненавижу!..
– Что, что такое?.. – бормотал опешивший Коляй, невольно оседая на стул.
– Почему ты терпишь, почему?! Она издевается над тобой, а ты… ты…
– Что ты, успокойся… – Коляй пытался обнять Дуняшку, но она не давалась, с отчаянием била ему в грудь кулаками, повторяя:
– Ненавижу, ненавижу!..
– Эх, Дуняшка, – неожиданно расслабился Коляй, и ему стало совершенно все равно, кричат ли тут, плачут, бьют ли его в грудь. – Вот и ты… Эх, Дуняшка, глупая ты моя, глупая…
Тон его слов серпом подкосил дочь, она упала на колени, расплакалась, разрыдалась в истерике.
– Дуняшка ты, Дуняшка, – повторял Коляй, гладя дочь по пушистым мягким волосам. – Ничего ты еще не понимаешь в жизни, ничего. Не в этом во всем счастье, не в этом…
– А в чем? В чем? – молила его глазами дочь, подняв к нему зареванное, истерзанное, ставшее совсем взрослым лицо.
Сёстры
Сказание о русских женах
Сестре Лоре
Глава 1
Полина
…Полина только усмехалась; Варвара – мать Варвара – и ворчала, и ворчала, и то не так, и это не так, все равно помирать, на кой черт затеяла переезд этот, вот она, веревка, как уедешь, Полина, так на этой веревке и вздерну себя: уж лучше там, в адовых вратах, чем здесь, в иудиных хоромах, тьфу!.. Полина слушала и усмехалась: неожиданно у нее возникла одна идея… Идея эта была так проста и хороша, что Полина удивлялась, как такое не пришло ей в голову раньше. И вот усмехалась – скорее от радости, чем прислушиваясь к ворчанию старухи.
Мать Варвара сидела на узлах посреди комнаты, в туго повязанном на голове цветастом платке, в просторном, довольно потрепанном платье, поверх которого была надета сначала шерстяная, пегого цвета, безрукавка, а затем одна кофта – магазинная, со скатавшимся от времени седенько-пепельным ворсом, а другая – домашняя, вязаная, которую Варвара носила, казалось, не снимая ни днем ни ночью, – подарок Полины. На ногах у матери Варвары, несмотря на жаркое лето, были натянуты теплые темно-коричневые чулки в резинку, и, хотя она сидела в войлочных полусапогах и ступней ее не было видно, Полина была уверена, что поверх чулок мать Варвара обязательно надела шерстяные, грубой вязки, носки, – от старости или, может, от вечной боязни простыть и заболеть, она всегда одевалась чересчур тепло, отчего выглядела неуклюжей и, что хуже всего, даже неряшливой.
Полина, нисколько не боясь, что мать Варвара может что-то сделать над собой, потому что она уже много раз грозилась посчитаться с этим светом вчистую, Полина решила тут же, не откладывая дела в долгий ящик, сделать то, что надумала. А именно – съездить в совхоз к отцу, Авдею Сергиевичу, всего-то двадцать километров отсюда, от поселка, – полчаса езды на автобусе.
– Ты вот что, – строго сказала она матери Варваре, растащив узлы по углам, – я сейчас обернусь мигом, надо мне по одному делу… А ты смотри не дури, разбери пока вещи, по шкафам разложи… Учти, вернусь не одна – с гостем; чтоб все чин чином было. Новоселье-то надо отметить, а? – И усмехнулась-улыбнулась.
– Новоселье я тут отмечу, как же… говорю тебе, Полина, вот она, веревка, как уйдешь, так и вздерну себя. Не увидишь меня больше живой…
– Попробуй только помри! – пригрозила Полина. – Из петли вытащу и выпорю, помяни мое слово!
– Как это – выпорешь? – неподдельно удивилась мать Варвара.
– А возьму вот этот ремень, видишь – он кожимитовый, тонкий да хлесткий, да ка-а-ак начну хлестать по одному месту…
– По мертвой-то?
– А что? И по мертвой. Может, совестно тебе станет, к тебе гости пришли, а ты висишь, как дура стоеросовая. Авось сама слезешь – от стыда да от боли.
– Так ведь я мертвая буду…
– Ничего, оживешь. Оживешь, как миленькая… Так что лучше и не затевай, самой же стыдно будет. Поняла?
– Тьфу на тебя! – озлилась мать Варвара.
На этом разговор их окончился, Полина подхватила сумочку и, щелкнув дверным замком, выпорхнула из квартиры.
Дом, в котором поселилась нынче мать Варвара, – пятиэтажный, блочный, выкрашенный по замыслу поселкового архитектора в желто-белые тона – клетка желтая, клетка белая и так далее, – дом этот находился несколько на отшибе от поселка и поэтому представлялся, особенно издалека, то ли разноцветной игрушкой, то ли бутафорией. Во всяком случае Полина слегка подтрунивала над матерью Варварой: «Заживешь королевой теперь. Дом-то, как дворец, разукрашен, а ты все недовольная…» На что мать Варвара скороговоркой отвечала: «Плевать мне на дворцы ваши, плевать, плевать…» Полина, правда, не обращала никакого внимания на ворчание матери Варвары: если б ее слушать (с давних, ох с каких еще давних пор тянется эта ниточка старухиного характера!), так тогда бы уже пришлось либо в злобе иссохнуть, либо руки на себя наложить… И черт его знает, что за характер такой! Однако, привычная к ее характеру настолько, что уже не реагировала и не выделяла его среди других, Полина безропотно выносила любые его причуды и выкрутасы, так что со стороны, если посмотреть необвыкшимся глазом, могло показаться, что характер у матери Варвары даже золотой, потому как Полина вокруг старухи разве что не пляшет – уж так, кажется, заботится о ней, боготворит и любит ее! С другой стороны, почитание это иной раз представлялось притворным, потому что Полина нередко без всякой причины и умысла помыкала старухой, говорила с ней грубо, откровенно, без обиняков. В общем, отношения между ними были непростые…
Оглянувшись на дом раз, другой и третий, Полина побежала окраинной дорогой в центр поселка, к автобусной остановке, продолжая затаённо улыбаться. Никто, слава Богу, не встретился из знакомых, не хотелось отвлекаться на пустые разговоры и расспросы, хотя в душе у Полины, в сокрытой тайной глубине, как будто пела какая-то струнка, ищущая отзвука, чужого понимания, – все-таки Полина переломила мать Варвару, заставила, как та ни упиралась, переехать в новый дом, а то ведь стыдно уже людей… На этот раз Полина просто-напросто не выдержала, примчалась из Свердловска – мать Варвара сидит посреди двора, на черном, почти в дёготь, бревне, широко расставив ноги и бросив на подол заскорузлые, не отмытые от назёма руки, – как возилась в огороде, так, видно, и во двор пришла, не ополоснув их хотя бы в бочке, которая издавна стоит у них под водосточной трубой; взгляд тусклый, жива ли, мертва, не поймешь, но как услышала Полинину ругань, глаз у старухи – правый глаз – прям-таки засверкал жаром и ненавистью… «Левый-то глаз у тебя, – не раз в сердцах говорила Полина, – недаром как мертвый, потому что сердце закаменелое, злобное…» – «То-то и оно, что сердце у меня, может, по правую руку, не как у вас, балбесов, а ты и не знаешь этого, дура…» – не оставалась в долгу старуха.
Короче говоря, встреча с матерью Варварой получилась, как всегда, не из радостных. Но какое это имеет теперь значение? Сейчас главное – надо ехать в совхоз, к отцу Авдею Сергиевичу, вот и автобусная остановка уже показалась, да и автобус как раз выруливает на посадочную площадку.
Время было – чуть за полдень, народу в автобусе в самую меру – ни лишку, ни мало, стекла по правую сторону были приспущены, так что под мирный пассажирский говор, монотонный гул «пазовского» мотора и свежий струистый ветерок, желанно лившийся из окон на разомлевших от жары пассажиров, дорога, казалось, сама собой, легко и непринужденно катилась вперед. За поселком, за южной его окраиной, дорога нырнула в низину, где повсюду нынче разросся бурьян да репей, – были и тут когда-то дома, самые близкие к заводу и поэтому, как считалось, самые удобные: вышел из дому, а заводская проходная – вот она, не надо и тратить время на дорогу… Металлургический завод, к которому, как дитя к соскам матери, прилепился когда-то поселок, был некогда самой важной, самой существенной частью всей поселковой жизни, десятки лет только и страсти было, как борьба между тремя уральскими соперниками – Северным, Верх-Исетским и Нижне-Салдинским заводами. Чугун, сталь, прокат – вот три кита, на которых стояла жизнь и самый смысл существования поселка… Но пришло время, и рядом с металлургическим взошли, как опята вокруг матерого пня, корпуса нового – трубного завода, который поначалу лишь на цыпочках тянулся за своим старшим братом, даже лучше сказать – отцом, затем нагнал его, а там и перерос, да так сильно, что нынче металлургический завод уже ничто, а трубный – вся жизнь поселка Северный, со временем ставшего, пожалуй, небольшим городом. А пустырь, заросший теперь репьем да бурьяном, а кой-где коноплей, среди которой летними утрами и вечерами поселковая ребятня охотилась с садками за разнопёрыми, в ярких одеяниях щеглами, пустырь этот тоже некогда был поселком, но расширяющимся корпусам трубного завода требовались новые площади, и часть поселка снесли, оголив землю под фундаменты цехов. Однако фундаменты возводить не торопились, а затем и вовсе перенесли на другие земли, на пять километров южнее искусственного пустыря – поближе к прудам, вода которых так была нужна трубному производству… Осиротелая земля, некогда живая из живых, цветущая и плодоносящая, осиротела вдвойне, поросла диким разнотравьем, среди которого живо и радостно бежала лишь лента плотно укатанной, будто утрамбованной проселочной дороги. Дорога эта соединяла северную часть поселка с южной (вместе они и составляли, собственно, небольшой город), а дальше дорога текла к совхозу, к молочным и животноводческим фермам, еще дальше – в леса, в далекую глушь, за которой, казалось, начиналась исконная дикая Русь; на самом деле и там не было никакой дикости, а были дивные лесные и горные озера и пруды, где со временем наладили кооперативный отлов промысловой рыбы – от тщедушных окуней и щук до царственных сазанов и карпов.
Где-то на исходе третьего километра обширного дикого пустыря дорога прибивалась к пруду и бежала обочь его извилистого, поросшего кувшинкой и тростниковой осокой берега, и вот тут-то начинались корпуса трубных цехов… На ближайшей остановке из автобуса, распаренные и разморенные, вышли почти все пассажиры – ехали на работу, на завод. «Это ты одна лентяйка, – подмигнув Полине, крикнул с дороги молодой, щекастый, с веселыми глазами и густыми, выгоревшими до белесости усами мужик, – ездишь-катаешься, а мы вот вкалывать… Эй, слышь меня! Эгей!» – и рассмеялся. Полина, еще в автобусе почувствовав на себе его заинтересованный взгляд, но ни единым движением не идя этому взгляду навстречу, – мужику-то? да ну их в баню, одна только маета с ними! – теперь, когда автобус тронулся с места и озорной мужик стал неопасен, вдруг тоже весело крикнула в окно, помахав бедолаге рукой: «Иди, работай, иди, усатик ты наш миленький! Заработаешь чего – тогда поговорим!..» И оглянулась, и долго смотрела вслед убегающей дороге, на краю которой продолжал стоять веселый, а теперь расстроенный, огорошенный своей бестолковостью мужик: «Раньше надо было подвалить, эх, раньше…»