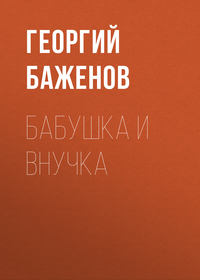Полная версия
Слово о неутешных жёнах (сборник)
Как жить дальше? Что делать?
Когда в бокс вошла Катя, Коляй открыл глаза.
– Проснулся?
Он не ответил – и так было ясно.
Потом она его перебинтовывала, обрабатывала раны и разговаривала с ним так, будто ей весело было, что он здесь лежит и у нее наконец появилась работа, по которой давно истосковались руки.
– Ну, не Павлуша бы Востриков, быть бы тебе, Коляй, гостем на том свете!
– Чего это?
– Так кто тебя сюда притащил? Востриков. Да еще товарищ его, бородатый такой. Вдвоем на ручках и внесли, как ангела.
«Вон чего, – нахмурился Коляй. – И тут он. Гадство…»
– Ты вот что, Катюха, – сказал он, – жена придет – ко мне не пускай.
– Это еще почему?
– Почему, почему… – проворчал Коляй. – Одному охота побыть. Понимать надо.
– Ладно. Не переживай. – И улыбнулась Коляю.
Может правда она была рада, что он тут лежит?
Дуся, конечно, прибежала на медпункт спозаранку. Осунулась за ночь на лицо.
– Нельзя к нему, – безжалостно отрезала Катя. С Дусей она разговаривала строго, начальственно.
– Ну а как он? – Дуся, при своем-то характере, заискивающе заглядывала Кате в глаза.
– Пока в неопределенном состоянии, – ответила Катя.
Но говорить так она могла сколько угодно. Дуся точно знала: Коляй будет жить. Вчера еще, вечером, Востриков с Семенычем передали ей Катины слова: «Такие, как Комаров, не умирают». И что она улыбалась при этом, тоже передали. Одно худо: судом ее пугали.
– Тогда передай ему вот это… – Дуся протянула Кате узелок. – И вот это еще… – Она порылась в карманах передника, достала смятый листок.
– Что это?
– Записка.
– Записка? – удивилась Катя и повела полным, красивым, женственным своим плечом: не знаю, мол, не знаю… – Ладно, попробую.
Записку Коляй попросил Катю прочитать вслух. Если бы они посмотрели в окно, то увидели бы там две мордашки: Дуняшкину и Тошкину. Лицо у Дуняшки раскраснелось, глаза расширились от натуги – она держала братца на руках, а он парнишка крупный был, тяжелый, вот ей и трудно было. Они таращили глаза в палату, с улицы-то плохо видно, и Гошка все хотел по стеклу стукнуть, а Дуняшка шипела змеиным шепотом:
– Тихо ты… Стукнешь – так наподдаю, своих не узнаешь… Прогонят ведь!
– «Коляй, – читала Катя, – если думаешь, я виновата, так ты сам виноват. Спасибо скажи, что обошлось. Пишу тебе: где получка? Детей кормить нечем. Дуся».
«Вспомнила про детей», – подумал Коляй, и сердце его сжалось болью, тоской.
– Что ответить-то ей? – вывела его из боли Катя.
– Скажи, тяжелый я.
– Говорила уже.
– Скажи еще раз.
Катя увидела в окне детские мордашки и погрозилась пальцем. Мигом исчезли, как и не было их.
– Ладно, мое дело маленькое, – бесстрастно сказала Катя.
Так Дуся Комарова и ушла ни с чем.
Потом пришел Востриков. Один, без Степаныча. Пришел важный, серьезный. Коляй хотел сказать ему: спасибо, мол… но язык не поворачивался – не любил Коляй Павлушу, и все тут.
– Заявление писать будешь? – спросил Павлуша Востриков официальным тоном, достав из сумки-планшетки бумагу, ручку.
– Какое заявление?
– По полной форме. Тогда-то, в такое-то время гражданка Комарова покушалась на мою жизнь с применением холодного оружия. Свидетели – такие-то (мы со Степанычем). Прошу дать заявлению официальный ход в соответствующих органах. Подпись.
– Зачем это? – удивился Коляй.
– Как зачем? В нашем государстве ни один человек не имеет права покушаться на чужую жизнь. В том числе жена на мужа и муж на жену.
– Напишу – Дуську судить будут?
– По всей строгости закона.
– Не-е, так дело не пойдет. Чего ж я ее от детей в тюрьму сажать буду? Мы с ней сами разберемся. Уж лучше я с ней жить не буду, чем в тюрьму ее сажать. Так можно?
– Выходит, ты считаешь, ничего особенного не произошло?
– Если по-другому нельзя – выходит, так.
– И в следующий раз она тебя запросто может порешить, так?
– Следующего раза не будет.
– Почему это?
– Ну что она, дурная, что ли, каждый раз с ножом бросаться? Да и вообще…
– Дурная не дурная, а баба с характером. Особенно против тебя. Ну, мое дело – принять от тебя официальное заявление. А там как знаешь.
– Не-е, заявление писать не буду. Пускай баба живет, как жила.
Некоторое время оба молчали.
– Не передумаешь? – поинтересовался Востриков.
– Нет, – твердо ответил Коляй.
Павлуша Востриков по-дружески улыбнулся:
– Если хочешь знать – я был уверен в тебе, Комаров. Хороший ты мужик! Но бабу свою приструни… Не годится на кормильца с ножом!
– Разберемся.
Жить Коляй ушел к матери на Красную Горку. Старуха знала обо всем случившемся и особо не пытала сына. Когда он спросил ее: «Не выгонишь?» – она просто ответила: «Живи».
Стали жить вдвоем.
Каждое утро, как прежде, как всегда, Коляй уходил на вырубки. Мать собирала ему еды – сала, яиц, огурцов, вареной картохи, хлеба, и Коляй, благодарно кивнув, поспешно хлопал дверью. Мать не хвалила, но и не осуждала его, но было в ее поведении что-то такое, от чего Коляя бросало в стыд. Впрочем, до поры до времени он не мог разобраться в своих ощущениях. Просто пораньше уходил и попозже возвращался. Дом, в котором он вырос и который прежде ждал его с радостью, будто глядел на него теперь дурным глазом.
На делянку Коляй уходил подавленный.
Однако на работе внутренняя пружина отпускала его. Собственно, он и был для того рожден на свет – для работы. На то он и мужик. И любая работа, а особенно та, которая требовала души, примиряла его с жизнью. Будь она самой тяжелой-растяжелой.
А такой и была его работа на вырубках.
Двадцать лет, без малого, Коляй только и делал, что валил лес, и, хотя многие в бригаде за эти годы растеклись по сторонам, стержень ее оставался, как и должно оставаться стержню: Герасим – бригадир, Коляй – вальщик. Герасим отличался редкой молчаливостью, внешней угрюмостью, но душой был младенец. Такие люди прикипают к своему делу смолой – ничем их не отдерешь потом. Коляй же, дома тихий, незаметный, в работе был суматошный, веселый. Лицо его освещалось одухотворенностью, светом. На таких, как Коляй, как Герасим, и держится трудовая Русь.
«Дружба» в руках Коляя не пила – музыкальный инструмент. Трудно вспомнить, хотя бы единственный раз, чтобы лопнула у Коляя цепь. Он чувствует ее жизнь, как чувствует и жизнь дерева. Осина поет легко, с широкой удалью, будто и не приносит ей никакой боли цепь, и цепь отвечает ей взаимностью: не ревет, не тычется, а плавно, мерно уходит в глубину ствола. Сосна увязает в музыке, поет-поет, да вдруг будто сорвет голос, увязнет в нем или споткнется, тут уж цепь отступает в сторону и только затем начинает свои новые такты. Упрямей, но и музыкальней всех береза: тон у нее высокий, пронзительный, и такое ощущение, будто петь ее принуждают, и вот она часто своенравничает – хватает цепь, как в тиски: ну, долго еще петь по твоей указке?
Знает, знает характер дерева вальщик Коляй Комаров.
Герасим, как вернулся в первый раз Коляй на вырубки, так ни о чем и не спросил его. Подошел только, прикурил от Коляиной цигарки, пощупал взглядом ладони Коляя: они были в крученых надрезах, – нахмурился Герасим, и все. На шее – там у Коляя было похуже: один, но глубокий и долгий, в хороший мужской мизинец, шрам. Это Петр Дятьков, тракторист-трелевщик, первый тогда пустил шутку:
– Вишь как баба любит его! Причмокнула так причмокнула!
Кое-кто в бригаде рассмеялся: Волков Сережа (у него тоже с женой всегда нелады), Игнатьев да Ленька Мелехин (эти холостяки, им палец покажи – рассмеются).
– Ну, поржали – и ладно, – нахмурился Герасим.
А это значило – пора по местам.
Валили лес, сучковали, трелевочник оттаскивал хлысты, разделывали, клеймили, складывали в штабеля.
Простая работа. Но семь потов с тебя сойдет, когда к концу смены воткнешь вострый топорик в чурбак:
– Что, мужички, пора по отходной засмолить?
Садились, закуривали – потные, усталые.
На Красной Горке ждали иногда Коляя дети – Дуняшка и Гошик. Гошик в последнее время хмурился. Дуняшка наоборот – как увидит отца, будто маковкой расцветет.
– Ой, папка, – говорила она, – скоро в школу, а как неохота!
– Неохота, – хмыкал Коляй, – а у самой вон рот до ушей.
– Это от другого, – смущалась Дуняшка.
– От чего такого? – спрашивал Коляй.
– А, ишь какой… – щурилась в улыбке Дуняшка. – Может, это мой секрет?
– Знаем твои секреты…
А ведь не знал Коляй Дуняшкиных секретов. Не знал, верней, не понимал, что Дуняшка рада, что отец ушел из дома. Мог ли он понять такое? Да и как это – рада, что отец ушел из дома? А вот бывает. Когда отца любишь, так устаешь смотреть, как им помыкают, да брезгуют, да кричат на него, да денег день и ночь требуют. А теперь мать плачет. Пускай. Пусть поплачет, пусть, может, поймет, как папку не любить…
– Ну вы, пострелята, – добродушно покрикивала бабушка Таня на внуков, – дайте отцу умыться… А потом живо за стол! Ужин стынет…
Вот так сидели однажды, чистые, умытые, счастливые, во главе стола – бабушка, по правую руку – отец, и Гошик вдруг говорит:
– А я знаю, ты с мамкой поругался. – И, как всегда, прищурился, будто прицелился.
– Ну-у?.. – будто понарошку удивился Коляй. (А что оставалось делать?)
– А я знаю, почему поругался, – продолжал Гошик и весело болтал ногами.
– Почему? – все в том же весело-наигранном тоне продолжал Коляй.
– Потому что ты мамку хотел зарезать. А она милицию вызвала.
Все так рты и открыли! (А Дуняшка, раз только, – подзатыльник Гошке.)
Первое, что Коляю хотелось сказать, не сказать – крикнуть: «Это не я – она хотела меня зарезать!» – но, слава Богу, не выкрикнул, сдержался, только густо покраснел и вдруг подавился, закашлялся. И главное, очень жалел позже, что вообще ничего не ответил, промолчал, будто сын правду сказал. Надо было хоть возразить: «Нет, неправда это, никогда такого я не хотел!..» Да что теперь: улетела минута, как синица из клетки.
Дети ушли, а Коляй долго лежал без сна. И слышал: там, на печке, на полатях, не спит и мать, вздыхает, пришептывает что-то. Он теперь понял: он-то ушел, а Дуся, жена, грязью его дома поливает. Плачет, беснуется, а грязью поливает. И хуже всего – перед детьми поливает. Вот Гошка дурачок дурачком, а запомнил: отец хотел убить мать… И опять – в который раз в жизни! – жалость к себе и обида разжигали сердце Коляя, будто раздувал притухшие угольки лесной ветер-верховик.
– Домой тебе надо возвращаться, – сказала мать так, словно точно знала: Коляй не спит, думает.
– Выгоняешь? – взвился Коляй и соскочил с лежанки.
Сел, свесив ноги, вперив взгляд в занавеску, за которой наверху лежала мать.
– Выгонять не выгоняю, а домой возвращаться тебе надо, – повторила мать. По неясному шороху было понятно, что она, кажется, при этом перекрестилась.
– Значит, она меня – режь, значит, она меня – убивай, а я только шею подставляй, так?! – почти на крике не соглашался Коляй.
– И убивать станет, и помыкать, и с грязью мешать, а дети без отца – куда это годится?
– Дети без отца! Так она только о том и думает, что из-за детей я и приползу на коленях, прощения просить буду! Нет, выкусит пусть – не бывать такому!
– Не бывать такому – значит, не видать тебе и детей как своих ушей. Вон Гошка какой уже, Дуняшка, без тебя хорошо им расти? Чужими тебе вырастут. Чужими. Попомни.
– Не вырастут. Я вот он – рядом. Когда надо – пришли, когда надо – свиделись.
– Коляй, Коляй, четвертый десяток добираешь, а в дураках жизнь хочешь прожить…
– Нет, мать, так дело не пойдет! – в горячке зашептал Коляй. – Давай слазь с печки, посидим по-хорошему, поговорим. А то отмалчиваешься… У меня давно накипело, душу открыть некому… Мать ты мне или не мать?
– Я-то мать… – Кряхтя, пристанывая, старуха слезла с печи, вышла в сени, оттуда в кладовку. Принесла огурцы, сала, развернула из тряпицы хлеб. Из горки достала початую бутылку.
Разговор потек дальше, но теперь за столом, по-человечески. Глаза матери давно подернулись старческой слезной дымкой, но, надо отдать ей должное, плакала она редко.
– Вот ты, мам, скажи мне: ты бы руку на отца подняла?
– Ну, сказал тоже, – отмахнулась старуха двумя руками.
– То-то! – победно заключил Коляй.
– Так то отец твой был, Ефим Иванович! – сурово поджала губы мать. – Тот сказал – попробуй его ослушаться.
– А я, значит, не в отца! Характера не хватает?
– Не в характере дело. Время нынче другое.
– Чем оно другое-то?! – склонился над столом Коляй и будто хотел пробуравить мать пытливо-настороженным взглядом.
– А тем и другое: захотела твоя жена – и чуть не прирезала тебя. И вишь – правда на ее стороне. Детки, Коляй, детки тут всему мера.
– Не понимаю! – помотал головой Коляй. – Не понимаю! Вот убей меня – не понимаю!
– Поймешь еще… Какие твои годы, Коляй, поймешь.
– Мам, да ты сама пойми: в медпункт ко мне пришла, так она зачем пришла? Прощения просить? Записку написала: где получка? Мол, детей кормить нечем… Вспомнила! Вчера чуть не зарезала, а сегодня первое, чего ей надо: где деньги? Это как?! – И Коляй в страстной обиде хлопнул ладонью по столу: только посуда задрожала.
– Вот-вот, – сказала старуха. – Сам виноват – сам вину и прими. А детям без отца нынче хуже, чем в войну: там хоть вы, мужики, героями были, ждали вас, ждали…
– Не понимаю! – совсем тихим шепотом продолжал Коляй. – Не понимаю!
Шло время. Осень, зима, весна… Коляй терпел, выдерживал характер. Детей видел все реже и реже, зимой особенно. Душа изнывала, но Коляй знал: нужно терпеть. Он должен доказать проклятой своей жене Дусе Комаровой: он человек. Он человек – вот что должна понять эта дура.
Вот только собиралась ли она понимать?..
IIIВ действительности все было совсем не так.
…Из медпункта Коляй вернулся домой, а не ушел жить к матери на Красную Горку. Были такие мысли, были, но как выбрался от Кати, так ноги сколько ни петляли, а привели Коляя домой. За время, что он лежал в медпункте, Дуся больше не заглядывала к нему. Приходили Гошик с Дуняшкой. Смотрели в окно. Приходил Герасим. Приходила мать. А жена не приходила. Хватит одного раза. У нее дел невпроворот по хозяйству, окинуть взглядом – года не хватит…
Первым увидел Коляй сына. Он копошился в саду перед домом, рыхлил землю под яблоней.
– Вот добрый хозяин, – улыбнулся Коляй.
Он, когда увидел Гошика, и увидел дом, и увидел землю, которую рыхлил тяпкой пятилетний сын, сразу обмяк сердцем; стоял у изгороди, положив руки на зелинки, потерянно улыбался.
– Папка! – Гошик отбросил в сторону тяпку и – через дверцы палисадника – кинулся к отцу.
Коляй подхватил его на руки, прижал сына к себе, прижался к нему сам. За эти дни у него отросла изрядная, чуть рыжеватая, а кое-где седая щетина, и табаком от него пахло круто, но Гошик не обращал внимания, жался к отцу и все повторял:
– Папка! Папка!..
– В дом-то пойдем? – спросил Коляй.
Гошка не ответил: стиснув зубы от чувств, кивнул только – ага, пойдем. Он, может, и слезу бы сейчас пустил, да знал: мужчины не плачут.
– Кто дома-то есть? – спросил Коляй у сына, держа его на руках, входя с ним в ворота.
– Мамка.
– А Дуняшка где?
– Дуняшку мама в поле послала. За щавелем для борова.
– Ясно.
С этими словами на устах и вошел Коляй в сени. Дуся месила отруби в ведре; оглянулась, распаренная, лицо жесткое, волосы из-под косынки сосульками торчат.
– Во, явился француз с войны! – сказала не зло, но и без насмешки: как бы между прочим.
Не снимая Гошика с рук, не обратив внимания ни на Дусю, ни на ее слова, Коляй прошел в дом. Чувствовал только, как покрылась испариной спина – ведь первое свидание с женой, а чего только не передумал он, представляя, каким оно будет. Вышло вот каким. На то она и жизнь.
В доме пахло свежестью, чистотой; на кухне из кастрюли лезло из-под полотенца тесто; Коляй опустил сына на пол, взял вилку, потыкал тесто – оно сразу осело на четверть, а то и на треть; Коляй бережно прикрыл тесто полотенцем, невольно покосившись на входную дверь: не видала ли жена? А почему покосился, почему «не видала ли?» – сам не знал.
Сел на лавку; поставил напротив себя сына, взъерошил ему волосы:
– Ну, как тут живете?
– Плохо без тебя. – Гошик прижался к ногам Коляя, отец поцеловал его в макушку. Пахло от Гошика неуловимо родным – будто топленым молоком, что ли.
Тут Коляй увидел, что дверь в большую комнату (они называли ее «зало») села, так что на глянцевом крашеном полу появился дугообразный след.
– Тащи-ка ножовку, – сказал он сыну. – И вообще инструмент.
– Дверь чинить будем?
– Угадал, – улыбнулся Коляй; руки у него хоть израненные, в шрамах, а истомились по работе.
С Гошиком они пересаживали дверь на новые петли, опилки липли к взопревшим лицам, пыхтели оба, не замечая ничего вокруг. Но чутким ухом Коляй слышал, как Дуся то входила, то выходила, гремела ведрами, посудой, потом запахло пирогами, сладким печеным тестом, а внутри у Коляя что-то сдвинулось, запершило в горле, зарябило в глазах.
Когда с поля вернулась Дуняшка, дверь висела уже на новых петлях, а Дуся накрывала на стол. Коляй сидел на крыльце, курил; рядом сидел Гошик, строгал «чижика» для будущей забавы; Дуняшка опустилась на колени перед отцом, расплакалась.
– Ну, будет, будет, – потрепал ее по рыжеватым волосам Коляй (и опять у него запершило в горле). – Чего ты…
– Катя вредная, – всхлипывала Дуняшка. – Ни разу нас к тебе не пустила. – И смотрела на отца омытыми слезами глазами.
– Она не вредная. Не положено, – защищал ее Коляй.
Дуняшка осторожно провела пальцем по глубокому шраму отца на шее. Коляй от неожиданности вздрогнул.
– Больно? – поморщилась Дуняшка.
– Папка солдат! – заявил Гошик. – Правда, папка? Солдатам больно не бывает!
– Точно, – поддержал его Коляй и в который раз за сегодня улыбнулся; а ведь сколько дней лицо его не знало улыбки.
На крыльцо, пышущая жаром, выглянула Дуся:
– Ну, гоп-компания, за стол. Пироги подаю!
Гошик подскочил как подстреленный, за ним направилась в дом Дуняшка:
– Пап, пошли?
Коляй ответил:
– Иди, иди, я покурю пока…
Минуты через три Дуся снова выглянула на крыльцо:
– Тебе что, особое приглашение?
Коляй молчал; молча и надсадно курил; обида, как яд, растекалась по всему телу истомной, жалящей болью.
– Ну, сытых дважды не приглашают! – И Дуся шумно хлопнула дверью.
«Петли смазать надо. Петли визжат», – подумал опустошенно Коляй. Он отщелкнул от себя цигарку и, чувствуя слабость под коленками, встал на ноги. Упоенно хрюкал в свинарнике боров, шумно дышала, жуя жвачку, Стеша. Коляй взял лопату, вилы, пошел к Стеше. Корова косилась на него умным, большим, жалостливым глазом. Коляй похлопал ее по пятнистому боку, сказал: «Ничего, ничего, Стеша, бывает…» Минут десять чистил у нее, подложил за перегородку свежего, пахучего сенца. Потом попроведал борова. Тот до сих пор не мог оторваться от Дуняшкиного лакомства – хрумкал и хрумкал щавель. Коляя, видно, он немного подзабыл, в первую минуту шарахнулся от него. А вот Стеша не забыла. Стеша смотрела на него умно, с пониманием. Вроде вот забивать ее надо на ноябрьские, стара стала, а жалко…
Коляй взял топор, пошел в дровяник. Сосновые чурбаки разлетались под его ударами, будто спички сыпались из коробка. Минут десять махал Коляй топором, потом отшвырнул его в сторону. Душа стонала. Коляй и в самом деле вдруг услышал собственный стон, вырвавшийся невольно из груди.
«Нет, так дело не пойдет, – подумал он. – Спятишь еще, гадство…» – И Коляй решительно вышел за ворота дома.
До делянки было километров семь; хорошего хода – полтора часа. Коляй широким шагом направился в лес…
Когда он неожиданно появился в бригаде, именно тогда Петр Дятьков и ляпнул сдуру:
– Вишь как баба любит его! Причмокнула так причмокнула!
Кое-кто в бригаде рассмеялся: Волков Сережа (у него с женой всегда нелады), Игнатьев да Ленька Мелехин – холостяки.
– Ну, поржали – и ладно, – нахмурился Герасим.
Он подошел к Коляю, прикурил от его цигарки, пощупал взглядом ладони Коляя: они были в крученых надрезах. Нахмурился Герасим, но ничего не сказал. На шее – там у Коляя было похуже: один, но глубокий и долгий, в хороший мужской мизинец, шрам.
А потом началась работа… Очнулись от нее, только когда Ленька Мелехин азартно прокричал:
– Эй, Коляй, смотри, кто идет!
По тропинке к ним, с узелком в руке и с бидоном – в другой, выходила Дуняшка: рыжая, в цветастом платье, в резиновых сапогах и с голыми коленками.
Коляй нахмурился, хотя хотелось наоборот – улыбнуться.
– Вот, – поставила Дуняшка бидон на пенек. – Ешьте, пейте. – И развязала узелок, в котором горой лежали пироги и шаньги.
Бригада, конечно, навалилась на угощение; сел со всеми в круг и Коляй. Он не спрашивал: сама ли Дуняшка догадалась или мать послала ее с пирогами. Не мог, не хотел спрашивать. Молоко пили прямо из бидона, через край. По кругу. Нахваливали пироги: тут было три сорта – с капустой, с картошкой и с яйцами-луком.
Дуняшка сидела чуть в стороне на пенечке, подперев ладошкой подбородок. Светилась оттуда глазами грустными, жалостливыми.
– Дуняшка, ты сама-то умеешь печь? – с набитым до краев ртом весело спросил Ленька Мелехин.
– Умею. – И вздохнула при этом.
– А чего вздыхаешь? Вырастешь – замуж возьму. Пойдешь за меня?
– Да ты сейчас-то дурной, дядя, – ответила серьезно Дуняшка. – А тогда вовсе поглупеешь. Полысеешь еще…
Тут, конечно, бригада не осталась равнодушной – грохнула над Ленькой. Улыбнулся с гордостью за Дуняшку и Коляй. А Ленька как замер с набитым ртом, так и остался сидеть.
Каждый день теперь Коляй спозаранку уходил на делянку, стараясь вернуться с работы как можно позже. Ел он дома отдельно. Ну, как ел? Так, чайку заварит. Пару яиц сырых выпьет. Огурцом похрумкает. Хлеб солью посыплет. Спал за печью; когда клал печь, сам же и оставил там уютный закуток. Дуся не обращала на Коляя внимания: хочется мужику с ума сходить – его воля.
И все было бы ничего для Коляя (кроме стыда за детей и из-за детей), да вот одна штука мучила его всерьез. Тогда, когда Дуся просила получку, он не отдал ее. А теперь не знал, что делать с ней. Ему-то деньги зачем? А они лежали у него в кармане пиджака, и день, и два, и три лежали и жгли не карман – душу. Один раз он взял и выложил их на стол. И ушел на вырубки. Вернулся – деньги лежат. Вернулся на другой день – тоже лежат. И на третий – лежат.
Пригорюнился Коляй. Две ночи дома не ночевал. Оставался в лесу, у костра. На пару с ним ночевал и Герасим.
Герасим сказал, как мудрец: три жизни не проживешь, а одну прожить надо. И все, больше ничего не добавил. Понимай его, как знаешь. А слова растолковывающего из Герасима клещами не вытащишь…
На третий день Коляй вернулся домой – денег нет на столе. Ну, прямо горящий уголь из души выкатился. Коляй так обрадовался, что чуть не перекрестился.
И тут выходит к нему из угла Гошик, печальный, пасмурный, глаза опущены, руки безвольно висят.
– Пап, ты не хочешь с нами жить, да?
– Почему это?
– Я знаю, ты поругался с мамой… Поругался, да?
– Ну, мало ли в жизни бывает…
– А я знаю, почему поругался, – продолжал Гошик. – Потому что ты мамку хотел зарезать. А она милицию вызвала…
Коляй так рот и открыл.
Первое, что невольно хотелось сказать, не сказать – закричать: «Это не я – она хотела меня зарезать!» – но, слава Богу, не выкрикнул, сдержался, только покраснел и натужно закашлялся. И позже очень жалел, что вообще ничего не сказал, промолчал, будто сын правду сказал. Надо было хоть возразить: «Нет, неправда, никогда такого я не хотел!»
Вместо этого он хлопнул дверью и снова ушел в лес.
А на другой день после этого появился на делянке старшина милиции Павлуша Востриков. Коляй встретил его хмуро, если не сказать – враждебно. Востриков хоть и обратил на это внимание, но на хмурые стрелы в глазах Коляя не обиделся. Отошли они от бригады в сторонку.
– Если насчет заявления, – набычился Коляй, – так разговор один раз был. Писать ничего не стану.
– Слушай, Николай Ефимович, ну что ты, ей-богу, на меня крысой смотришь? Я по делу к тебе, по государственному делу, понимаешь?
Коляй не понимал.
Сели они на полянке. Кругом земляника, а чуть выше, на пригорках и вырубках, – широкие разливы черники.
– Какое еще государственное дело? – не поверил Коляй; ох, не верил он Вострикову, не верил.
– Вот ты в прошлый раз нас в шею выгнал, а что получилось? Беда получилась. А мы приходили посидеть с тобой, поговорить…
– Нечего без хозяина в дом шастать!