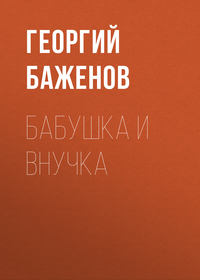Полная версия
Другу смотри в глаза (сборник)
Когда называют фамилию – Костоусов, теплая волна окатывает меня с головы до ног. В это время мы вдруг слышим мощные, страшные по своей силе, далекие взрывы не на экране, нет… Дядя Ваня первый выглядывает в распахнутое окно, смотрит на небо, мы тоже все смотрим и видим четко и ясно на голубом небе несколько белых облачков.
– А ведь это… – говорит дядя Ваня задумчиво, – это, кажется, боевые. Боевые ракеты…
И только он это сказал, раздался еще один, сильнейший, но очень-очень далекий взрыв – новое облачко взметнулось в небе и тут же, казалось, рассыпалось на мелкие части.
Через пять минут небо было по-прежнему чистое и голубое.
Праздник продолжался, вскоре мы совсем забыли об этих взрывах… и лишь через неделю я узнал, что это были не просто взрывы. Был праздник, всеобщая беззаботность, радость и счастье, а над нашим уральским городом появился самолет-разведчик Пауэрса, и кто-то, кто всегда оставался на боевом посту, нажал по команде на кнопку, и крылатые ракеты взметнулись навстречу врагу.
Я сам видел осколки самолета Пауэрса, нам показывали их в суворовском училище. Жесткие, упругие, серебристого оттенка…
Я сам все видел; я пережил в тот день счастье – вместе с друзьями я шагал по площади 1905 года, и наши барабаны пели нежно и грозно: бей, бара-бан, бей, бара-бан…
Там, за рекой…
1Там, за рекой, она появлялась почти каждый вечер. Я узнавал ее издалека – по легкой походке, по движениям рук, когда она собирала в поле цветы. Потом она бежала к реке, всегда к одному и тому же ивовому кусту, а из-за куста выходила в ярком купальнике и брела по песчаному берегу, круто сворачивала в воду и шла на середину реки, ленивотомным движением полуподняв руки вверх, шла и поворачивалась – развертывалась всем корпусом то влево, то вправо, и волны полукругом разбегались от ее тела… Она протягивала руки вперед, на секунду замирала и бросалась в воду…
Далеко-далеко за рекой, за полем, у самой линии горизонта, вытянулись в цепочку поселковые дома; примерно посредине селения возвышалась церковь, как бы пронзая горизонт куполом, а справа в совершенном одиночестве замерла деревянная скособоченная мельница. Сзади меня, уже на этом берегу, в сосновом лесу спрятались наши казармы; над казармами, над самыми верхушками сосен догорает вечернее солнце; лучи его окрашивают в мягкие полутона и деревню вдали, и мельницу, и бегущую воду реки. И оттого, что река в постоянном движении, она переливается, поблескивает – и искорки золотого свечения иногда больно, вернее, как-то очень ярко ударяют в глаза.
Однажды я перешел реку по деревянному мосту и направился к ивовому кусту. Я видел, как она купается, а потом – как выходит из ручья, настороженно окидывая меня взглядом. Я подошел к ней и сел неподалеку, и она вдруг весело рассмеялась:
– А ты смелый!
Я ничего не ответил.
– Эй, солдат! – сказала она мне и приподнялась с песка. – Солдатик! – повторила она. – Скажи, солдатик, сколько тебе лет?
Она, конечно, ничего не слышала о нас. Я, наверное, был смешной в солдатской форме.
– Я не солдат, – буркнул я.
– Не солдат? – игриво всплеснула она руками. – Может, ты шпион? – и, бросив далеко в реку пригоршню песка, рассмеялась.
– Мы проходим стажировку… – Я слегка заикался от волнения. – Мы проходим в армии стажировку. Я суворовец.
– Как же, слыхали!.. – Казалось, мои слова еще больше рассмешили ее, теперь она смеялась уже безостановочно. – Ну, так сколько же тебе лет, маленький солдатик?
Она накинула на себя ситцевый – белый горох по голубому полю – халатик, достала из широкого кармана странный какой-то, старинный гребень и расчесала волосы, слегка склонив голову влево. Как будто всерьез ожидая ответа, она смотрела мне прямо в глаза, не стесняясь, а тем более – не церемонясь со мной.
– Так сколько же, солдатик? – Она сделала несколько шагов в направлении поселка, обернулась и, было видно, приготовилась прыснуть.
Я ответил, прибавив всего полгода.
Она рассмеялась, покачала головой и, ни слова не говоря, побежала прочь. Вдруг она остановилась, замерла – всего лишь на миг, как будто колеблясь, потом резко развернулась и быстро пошла к реке.
– Солдатик! – крикнула она мне издалека. – А ты не знаешь такого – сержанта Ваню Сидорина?
– Сержанта Сидорина?! – непонятно даже, почему я так обрадовался ее вопросу. – Как же не знаю! Это наш командир взвода!
– А ты не путаешь, солдатик? – Она улыбнулась искренней, слегка растерянной улыбкой. – Солдатик, не путаешь?
– Нет, нет! – радостно кричал я. – Сержант Сидорин – командир третьего взвода. Третий – это же наш взвод!
– Солдатик, солдатик! – она бросила мне букет цветов, как будто перекинув от себя необычную радугу. – Передавай сержанту привет! Слышишь, солдатик? Ване привет передай!
Я подхватил букет и, чуть не выронив его, крепко прижал цветы к груди.
– Ладно, ладно! – кричал я. – Передам! Я обязательно передам! Только от кого? Как вас зовут?
Но она уже не слушала меня, бежала от реки…
2– Тревога!..
Со второго яруса прыгаю вниз, наступаю кому-то на ногу – ни слова ругани, одно сопение; галифе, портянка, сапоги; гимнастерка, ремень, пилотка. Бегу к пирамиде, хватаю автомат, щелк, щелк – затвор в порядке. В строй становлюсь почти последним.
– Опаздываете, Костоусов! – сержанту Сидорину некогда делать замечания, но ради меня он готов на все.
– Никак нет, товарищ сержант! – Мы уже выходим из казармы, но эти слова я успеваю выпалить с удовольствием: все-таки не я последний, а Вовка Аникин, наш взводный Папа Карло – так прозвали его за маленький рост.
– Разговор-р-чики!..
На плацу нас некоторое время держат в неизвестности, потом вкратце: «Обстановка, товарищи, следующая…», потом – команда, и мы строем, на ощупь бежим занимать оборонительный рубеж. Мушка автомата больно ударяет в шею или затылок – приходится снимать ладонь с ремня и придерживать приклад рукой. Сквозь глухой топот сапог слышу, как сзади тяжело дышит Папа Карло.
– Не отставать, не отставать! – командует Сидорин.
Наконец лес кончается, все лицо исхлестано ветками кустов. Высоко над полем светит маленькая луна; она, конечно, совсем не светит, а просто светится сама по себе. Около траншеи мы вытягиваемся в цепь, каждый прыгает в свой окоп. Сколько дней рыл я этот окоп! Сколько замечаний, даже один наряд вне очереди получил от Сидорина – то длина не соответствует норме, то глубина, то ширина, то бруствер не так устроил. И все время надо было рыть, рыть и рыть – простой лопаткой…
Сидорин недавно стал сержантом, и его направили к нам – стажироваться. Странно ему было поначалу командовать пятнадцатилетними суворовцами в солдатской форме. Он все никак не мог решить для себя – сполна с нас можно спрашивать или не сполна? Потом решил: раз мы в солдатской форме, значит, сполна…
– Рядовой Костоусов!
– Я, – отвечаю шепотом.
– Назначаетесь в разведку! – Сидорин отдает приказ тоже шепотом. – Займете позицию у реки, в черемушнике, вы, кажется, хорошо знаете эти места? – Я рад только одному: что он не видит, как я краснею. – Если что-нибудь заметите на том берегу, дадите знать вот этим фонариком.
– Есть! – я забираю у него из рук маленький продолговатый фонарик.
С детства для меня не было ничего страшней темноты, а теперь, ночью, я должен был ползти метров семьсот к реке, спрятаться в черемушнике и следить за противоположным берегом. Конечно, никто не знал, что я боюсь темноты (особенно если никого нет рядом). Однако сам-то я прекрасно знал это. Но делать было нечего: приказ есть приказ.
Странно, когда я выбрался из траншеи и пополз в направлении реки, я чувствовал в себе какую-то яростную решимость, которой сам от себя не ожидал. Я полз и повторял про себя: «Ты меня нарочно, нарочно послал! Но я тебе докажу, докажу!» В том, что Сидорин послал меня нарочно, я не сомневался ни секунды – это было ясно по той на первый взгляд безобидной реплике, которая понятна только нам двоим.
С автоматом в правой руке и фонариком в левой я полз по холодной ночной земле, и воспоминания сами собой всплывали в возбужденном сознании. Странный получился тогда привет сержанту «Ване Сидорину»! Перед самоподготовкой он вдруг вызвал меня к себе:
– Рядовой Костоусов, объясните, откуда вы знаете Веру?
– Какую Веру? – не понял я.
– В вашем возрасте, суворовец Костоусов, рановато заниматься амурными делами. И потом, кто вам разрешил покидать территорию расположения подразделения?
– Какую… территорию? – Я все еще ничего не понимал.
– Ах, суворовец Костоусов, суворовец Костоусов! Сегодня в 18.00 я наблюдал на том берегу вас с девушкой. Припоминаете такой факт?
– Разрешите доложить, товарищ сержант! Девушка передает вам горячий привет! Она так показала: передай, говорит, Ване Сидорину привет, Ване привет передай…
– Вот оно даже как! Сержант дожил до того, что получает приветы от девушки через рядового Костоусова?! Рядовой Костоусов, два наряда вне очереди за нарушение воинской дисциплины!
– Есть… – вяло взял я под козырек.
Занятый воспоминаниями, я почти не заметил, как добрался до реки. Если бы берег, густо заросший черемушником, не был так хорошо знаком мне, я бы, наверное, умер от страха. Одно дело, когда я полз, был в постоянном движении, другое – когда спрятался в кустах, замер, затих. Вместе со мной, казалось, замерли во мне и мысли.
Темной ночью, когда даже луна бессильна в борьбе с темнотой, я оказался у реки в первый раз. Днем, а особенно вечерами, я здесь бывал часто, но Вера, как назвал ее сержант Сидорин, появлялась все реже и реже. Переходить реку я уже больше не решался, я просто сидел и смотрел, как Вера купается. Один раз я не выдержал и закричал: «Ве-е-ера-а!..» Она встрепенулась, вгляделась в наш берег, но, наверное, не узнала меня или приняла за кого-нибудь другого. Вяло махнула рукой, разочарованно повернулась и, даже не накинув халатика, а просто перекинув его через плечо, побрела от реки.
– Вы бы лучше, товарищ рядовой, вплавь реку одолели! Может, она бы оценила тогда!
Я обернулся: рядом стоял сержант Сидорин. Он стоял серьезный и советовал совершенно серьезным, как бы даже сочувствующим тоном. Но общая ироничность его слов не вызывала сомнения.
В чем же дело, что значит его постоянное, неутолённое внимание ко мне? Ни один мой промах не оказывался им незамеченным. О реке вплавь он заговорил потому, что для меня, «романтика и мечтателя», как любил повторять сержант, это было немыслимое дело. Когда у нас проходили занятия на полосе препятствий, я еще перепрыгивал ров, пробегал по буму, преодолевал линию заграждения, но как только нужно было перемахнуть через окно пожарной стены – так стоп! Не хватало сил – ни подтянуться, ни тем более перебросить ногу через окно. Сержант выстраивал взвод на полосе препятствий и обычно говорил:
– Романтики, мечтатели! Я воспитываю из вас настоящих солдат! Вы у меня полюбите солдатскую полосу препятствий! Рядовой Костоусов, к выполнению упражнений – готовьсь!..
Слишком увлекшись воспоминаниями, я вздрогнул, когда вдруг среди ночи, точно по направлению к луне, взметнулась ядовито-красная ракета. Я успел разглядеть извилистую линию наших траншей, и в ту же секунду ударила автоматная очередь. Очередь подхватили, началась невообразимая стрельба-перебранка; где-то далеко слева, не в наших окопах, методично, даже как-то холодно-бесстрастно, заработал ручной пулемет. Десятки ракет взметались и взметались вверх, и можно было отчетливо видеть бегущего к нашим окопам «противника». Делая короткие перебежки, солдаты приближались к оборонительному рубежу и безостановочно стреляли – то на бегу, то лежа, то с колена. Это атака. Вести наблюдение здесь, на берегу реки, было уже ни к чему – бой начался. Я выбрался из черемушника и начал перебежками в два-три шага пробираться к своим.
Я продвигался вперед уже не перебежками, а ползком, по-пластунски. Слышу начало далекого впереди «ура-а!..» Наши или «противник»? Поднимаю голову, прислушиваюсь… Ничего не понять. Впечатление такое, что «ура» несется и из окопов, и со стороны «противника». Где-то в глубокой дали раздается рев танков, лязганье гусениц. Значит, танки! В ту секунду, как я понял это, я вдруг лечу в невероятную, неведомую пропасть. Резкая боль в левой ноге ослепляет сознание…
Сразу я очнулся или через какое-то время, я не понимаю. Когда прихожу в себя, замечаю, что стрельба утихает, не слышно уже криков «ура», не слышно рева танков.
Пытаюсь встать, но боль в ноге приковывает к земле. Не знаю даже, что со мной: сломал ли я ногу или это просто вывих. Держась руками за кусты, пытаюсь встать на правую ногу и таким именно образом – три точки опоры – лезть наверх. Ничего не получается – подъем слишком крутой. Только теперь я понимаю, где оказался: это не яма, не овраг, а специальный ров, через который «прыгают» танки.
Вокруг уже совершенная тишина: ни выстрелов, ни голосов, только в голове сильно шумит – от пульсирующей боли в ноге. Снова и снова пытаюсь выбраться наверх – бесполезно.
Вдруг как будто слышу голос Сидорина:
– Костоусов!.. Рядовой Костоусов!.. – Прислушиваюсь. – Где вы? Костоусов! Костоу…
– Я здесь. Здесь! – кричу со дна рва.
На секунду тишина, потом трещат кусты, кто-то скатывается ко мне вниз.
– Рядовой Костоусов! – начинает Сидорин грозно. – Вы, кажется…
– Нога, – говорю я.
– Нога? Что еще у вас с ногой? – Он берется за левую ногу. Я невольно вскрикнул.
– Так… – говорит он как бы в раздумье. – Вывих? Перелом? Ну-ка… – Он снова берется за ногу, и я вновь невольно застонал.
– Так, – повторяет он. – Ну-ка, обнимай меня за шею. Да покрепче. Так… крепче, крепче, не бойся… Правая шагает у тебя?
– Шагает…
– Ну-ка, давай помаленьку, вот так… за кусты придерживайся, молодец. Крепче, крепче обнимай, так… Еще шаг… Стоп. Стоп! Куда ты покатился?
Оба тяжело дышим.
– Так, отдохнули… Давай дальше, еще немного… молоток! Давай, давай… А ты ничего, терпеливый… больно ноге?
– Есть немного…
Мы наконец выбираемся из рва и некоторое время молча отдыхаем. Потом я снова обнимаю сержанта за шею (чувствую, как он вспотел), и мы на «трех ногах» шагаем дальше – уж как можем.
– Ты на меня не обижайся… – Каждое слово сержант выговаривает с придыханием. – Я, брат, хочу из вас людей сделать. Ты же будущий офицер… а какой ты офицер, если трудностей не испытал? Так, нет?
– Так, конечно.
– Нет, правда, не обижайся! Я тебе приказываю – не обижайся! Слышишь?
– Слышу. – Мы оба устало-понимающе усмехаемся.
– А ну-ка передохнем… Садись, садись, так… А с Верой мы вместе школу кончали, ты на меня не обижайся… Она теперь в институте учится, а я в армии. Так-то…
– Да я что!
– Вот… А девчонка она хорошая… Ну-ка, встали… Потопали, потопали, так… Ты, значит, того… этого… Вы о чем с ней говорили тогда у реки?
Тут мы слышим: к нам кто-то приближается.
– Товарищ сержант, это вы? – настороженным шепотом спрашивает Папа Карло.
– A-а, рядовой Аникин! Живо сюда! Вопросы – позже! Ну-ка, подхватывай Костоусова! Та-ак, молодец…
Одной рукой я обнимаю сержанта, другой – Папу Карло.
3…В тот день у меня было странно-уверенное предчувствие, что я увижу ее. Полосы солнечного света пронизывали кроны сосен – каждая иголочка, каждая травинка, попавшая в струи света, выделялась по-особенному отчетливо и резко. В молодом ельничке, в бороздах, оставшихся еще со времен лесонасаждений, я находил много рыжиков. А из-под елок, сочно-зеленые лапы которых касались земли, выглядывали в желтых шляпках маслята…
Никогда еще я не пользовался такой свободой, как в тот месяц. После выписки из санчасти меня освободили от всех дежурств, не говоря уже о строевых занятиях, полевых учениях и прочем. Почти целыми днями я мог бродить по лесу, уходить к реке, удить рыбу. Но если я сидел на берегу реки с удочкой, то сидел не ради рыбалки… Я все ждал, когда на том берегу появится она. И по лесу гулял не потому, что особенно хотелось, а потому, что нельзя же все время сидеть на берегу! Нога моя зажила еще не совсем, и при ходьбе я опирался на палку…
Когда я вышел к берегу реки, ноги сами повели к тому месту, где я обычно прятался в черемуховых кустах. Я знал, что буду сидеть и ждать, когда она появится на том берегу…
…Как сейчас вижу, она вошла ко мне в палату. У меня сидел Папа Карло, он вытаращил глаза, захлопал ресницами – я ему немного рассказывал о Вере. Потом его как ветром сдуло. А она… Она вдруг рассмеялась – точно так же, как смеялась в первый раз. Подошла к моей койке, села рядом и, время от времени спрашивая: «Что, солдатик, не ожидал, да?..», смеялась звонким, веселым своим смехом.
– Я узнала, что ты герой… что ты храбрый маленький солдатик. Что ты умеешь терпеть, переносишь любую боль, бедный мой маленький солдатик… И вот я пришла навестить тебя, не прогонишь меня?
– Меня вообще-то Володей зовут, – хмуро буркнул я, едва сдерживая улыбку.
– Да знаю я, как тебя зовут. Вова Костоусов! Но лучше я буду звать тебя – «мой маленький солдатик»! Ты мой добрый гений, ты даже сам не знаешь, каким добрым гением оказался для меня… Вот хочешь, поцелую тебя за это?!
И, не дождавшись ответа, она наклоняется надо мной, обдает мое лицо горячим дыханием и целует в левую щеку. Никто еще, кроме мамы, не целовал меня, и поэтому со мной происходит что-то невероятное – я закрываю глаза… Я закрываю их невольно, от какого-то странного чувства, которое сильней меня, сильней моей воли…
Она ушла так же стремительно, как и появилась. Я смотрю на соседнюю пустую койку, на которой она оставила два красных яблока, и чувствую, что мог бы сейчас расплакаться.
…Я пробираюсь через кустарник к своему заветному месту. Почему-то я уверен, что сегодня обязательно увижу ее. Подхожу к своему месту – и действительно слышу ее голос! Значит, предчувствие не обмануло меня… Сердце бьется очень громко. Я прислушиваюсь к ее голосу… странно, какие-то немыслимые, невероятные слова… как же так? А она говорит, говорит:
– Ласковый мой, родной… Не знаю, ох, не знаю, милый, как буду жить без тебя, не знаю… – Какое-то время ее голос звучит приглушенно, переходит в слабый, беззащитный шепот.
– Вера, Верочка…
– Как ты мог подумать такое… Мало ли что я учусь, а ты служишь… Господи, как я измучилась, думала, ну почему, почему он не приходит больше, разлюбил, наверное, меня? Каждый вечер бегала к речке, купалась – все ради тебя, для тебя. Думала, увидишь, поймешь… – И снова приглушенный шепот, а в ответ только одно:
– Вера, Верочка…
– Ласковый мой, мой единственный… – Она смеется, но не насмешливым своим, а доверчивым, опьяненным смехом. – Буду ждать тебя, ждать… только тебя…
Впервые я невольно слышу, как говорят, когда любят. Не в том дело, какие это были слова. Главное – как они говорились, как она произносила их. Я стоял растерянный, оглушенный, какое-то недетское горе, недетская боль вдруг вошли в мое сердце. Впервые я испытал ту боль, которую узнаю в будущем еще не раз и которая, быть может, знакома и вам: ты – любишь, а тебя – нет.
Что мне было делать? Я оказался третьим…
Чему я вас учил, мальчики?
В четырнадцать лет я стал чемпионом суворовского училища по гимнастике…
«…Я выигрывал бой за боем, я побеждал, я чувствовал в себе такую силу, какую ничто не могло одолеть, я мог в первом раунде послать противника в нокаут, а если он не сдавался, я посылал его в нокаут во втором, в третьем раунде, а если и в третьем раунде он не сдавался, я выигрывал по очкам, я всегда побеждал, я должен был побеждать и побеждал. Не было такой силы, какая могла меня сломить. И все-таки нашлась одна сила, мальчики, сила, которая сейчас вам непонятна, но которая заставила меня сложить оружие… Я проиграл один бой, потом второй, я вернулся из Мельбурна ни с чем, потому что, мальчики… Это вам непонятно сейчас, но запомните, мальчики: кроме любви к спорту есть гораздо более важная любовь – любовь к человеку. Я проиграл любовь к человеку, поэтому я проиграл в спорте…»
Так рассказывал о себе наш преподаватель физкультуры капитан Беляев. Он был неоднократным чемпионом Вооруженных Сил по боксу, чемпионом Советского Союза, чемпионом многих спартакиад, он ездил на Олимпийские игры в Мельбурн, сила удара у него превышала четыреста килограммов (есть такой прибор, который может измерять силу удара). В трамвае однажды четверо хулиганов смеялись над девушкой, наш капитан сказал: «Ну-ка выйдемте…» Те усмехнулись: «Жить надоело, служивый?..» – вышли, и все четыреста килограммов своего удара напитан поровну разделил на четвертых; говорят, это выглядело очень здорово. Капитан в то время был майором, а после он стал капитаном, но зато хулиганы узнали, что такое вчетвером безнаказанно издеваться над слабыми… Наш капитан много рассказывал о себе, мы любили его беззаветно, восхищались им, мы мало что понимали в его рассказах, если разговор заходил не о боксе и спорте, а о любви к человеку. Это было очень туманно и расплывчато, мы только одно поняли: никогда не нужно предавать человека так, как когда-то кто-то предал нашего капитана…
В четырнадцать лет я стал чемпионом училища по гимнастике. Я любил гимнастику, не любил бокс, но зато любил нашего капитана, мы все его любили, и если я добился чего-нибудь в гимнастике, то только потому, что всегда видел перед собой капитана. Это он сказал мне: «Ты настоящий спортсмен, но будь человеком…» Конечно, если бы мой прямой правый был под четыреста килограммов, я бы тоже хотел, чтобы хулиганы разлетались от меня, как скорлупа от ореха, когда ударишь по нему молотком. Но ведь я не боксер, и не было в моей руке силы в четыреста килограммов, и не с кем было драться, а человеком очень хотелось стать. Но как?
Я завоевал звание чемпиона в трудной борьбе. Был момент, я мог не стать чемпионом училища, но я очень хотел им стать и стал им, несмотря ни на что. Это не так легко было сделать, как может показаться. Не потому, что я не самый сильный гимнаст среди товарищей, в то время я был действительно первый гимнаст, а потому, что рядом со мной выступал мой друг Валька. Он был мой друг, но и соперник…
Тот, кто любит гимнастику, боготворит имена Чукарина, Шахлина, Титова. О Чукарине, с которым наш учитель встречался не однажды, а один раз даже на Олимпийских играх, капитан рассказывал нам много. Это был феноменальный гимнаст: сила воли, трудолюбие, преданность спорту – этого мало, чтобы объяснить природу Чукарина. Это был одержимый гимнаст, главная черта которого – страсть к победе. В наше время уже не Чукарин блистал в гимнастике, а блистали два друга – Шахлин и Титов. «Вечно золотой» Шахлин и «вечно серебряный» Титов. Это были друзья, но в их борьбе было соперничество, а не дружество, и не было случая, я не помню такого, чтобы из любви к своему другу Шахлин хотя бы раз уступил Титову. Они боролись честно: страсть к победе была выше жалости и душевного расчета, которые бы только унизили дружбу, а не возвысили ее. Так думаю я.
Так думаю я сейчас. Но тогда я не думал, а просто жил этим – во мне не было осмысления факта, а была непосредственность жизни. В четырнадцать лет я был более опутан страстями и глубоко искренними чувствами, чем сейчас, во взрослой жизни, где на первом месте размышление, даже и над своими чувствами. Еще и почувствовать что-нибудь по-настоящему не успеешь, как начинаешь думать: «А хорошо ли? А что это? Почему?» Нет, тогда я более жил радостью, гневом, сердцем, чем сейчас. Я любил гимнастику так, что, когда, например, подходил к любимому снаряду, ничего на свете уже не существовало для меня, ни о чем я уже не мог помнить, кроме того, что есть сейчас мой снаряд и нужно побеждать…
Не похоже ли, что я сегодня оправдываюсь? Надо разобраться.
Наш капитан говорил нам: «Я хочу, мальчики, чтобы, даже если вы станете знаменитыми спортсменами, вы любили и никогда не предавали друг друга». Об этом он говорил много раз, мы запомнили слова капитана. А ведь в тот день, когда я стал чемпионом училища по гимнастике, мой друг Валька сказал мне: «Предатель!»
…Первенство училища было открытым, посмотреть соревнования пришло много зрителей, среди них, конечно, и Аня – она болела за Вальку. Валька шел за мной следом, наступал мне «на пятки», очень хотел выиграть, это было важно для него, потому что в зале сидела Аня. Я знал об их отношениях и знал, что Аня сидит в зале, но мне не было дела ни до нее, ни до Вальки, со мной была моя гимнастика.
Перед последним снарядом я опережал Вальку на четыре десятых балла…
Мы теперь уже взрослые, давно женат Валька, и сын у него почти такой, какие мы сами были в то время, и все-таки иногда Валька говорит мне: «Ну что тебе стоило проиграть тогда? Я потерял из-за тебя первую любовь…» Теперь он говорит об этом улыбаясь, все-таки рядом жена Люся, все давным-давно позади, но тогда… «Валентин, – говорю я ему сейчас, – если бы вот теперь нас вывести к снаряду и если бы зависело, быть тебе сейчас с Люсей или не быть, – я искоса поглядываю на Люсю, – я бы уж, ладно, так и быть, черт с тобой, проиграл. Но тогда, Валя…»