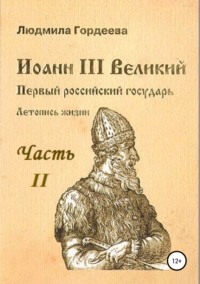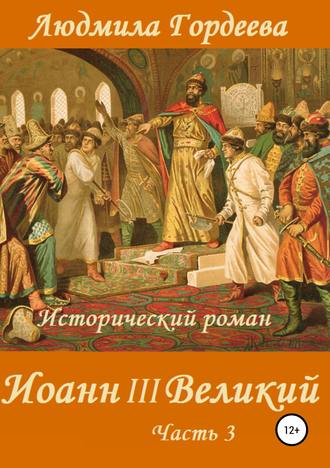
Полная версия
Иоанн III Великий. Книга 2. Часть 3
Далее владыка подробно перечислил всех архиереев Руси, не забыв упомянуть и о низших чинах, и о прихожанах, приступив к главному, ради чего и приказал написать эту клятвенную грамоту:
– … о великом Божьем деле, о том, что меня, худого, поставил господин и отец мой Геронтий, митрополит всея…
Владыка на мгновение запнулся, раздумывая, как назвать свое государство – по-новому или по-старому? Но решил, что прав этот заносчивый Вассиан Рыло, новое название звучит весомее, за ним – будущее:
– Митрополит всея Русии…
Гость старательно выводил слова и тоже запнулся при написании нового названия государства. Придержав перо в воздухе, он опустил его на бумагу и с видимым удовольствием выписал это красивое звучное слово, в котором ощущалась широта земель Русских – «всея Русии».
Написав под диктовку еще несколько фраз о своем рукоположении «в великую степень святейшества… вами, моею братиею, боголюбивыми архиепископами», князь-игумен оторвался от письма и спросил Геронтия:
– А мой предшественник писал такое письмо?
– Не писал. Потому мы и намучились с его своеволием. Да о том и толковать не хочется. Ты только не обижайся. Я тебе доверяю, иначе и не благословил бы в епископы Тверские. Но власть и обстоятельства нередко так меняют человека, что он и сам себя не узнает. Твоя клятва, данная тобой добровольно, без принуждения, заставит тебя задуматься, если вдруг обстоятельства сложатся для нас неблагоприятные. Так что пиши дальше.
Он вновь глянул в свою заготовку и продолжил:
– А от своего господина и отца, преосвященного Геронтия, митрополита всея Русии, или кто вместо него будет иной митрополит у престола Пречистой Богоматери и у гроба великого чудотворца Петра, не отступить мне никакими делами. А к митрополиту Спиридону, получившему поставление в Цареграде, в области безбожных турок, от поганого царя, или кто будет иной митрополит, поставленный от латыни или от туркской области, не приступить мне к нему, ни общения, ни соединения мне с ним не иметь никакого.
«Как грубо», – подумал Вассиан, но продолжил старательно писать дальше.
– В подтверждение сего и дана эта добровольная грамота вам, моей братии, за своей подписью и печатью, – продолжил Геронтий. – А сию грамоту я, Вассиан, епископ Тверской, подписал своею рукой.
– Все? – спросил гость.
– Думаю, достаточно, – молвил митрополит. – Теперь подпиши. И печать приставь.
Стригин-Оболенский потер свой перстень о пропитанную красной краской ткань в коробочке, которую подал ему владыка, и приложил к грамоте. Он волновался, и печать получилась смазанной.
– А что если меня завтра не утвердит братия? – спросил он.
– Тогда порвем эту бумагу, да выбросим. Только этого не должно случиться. К тому же самые строптивые владыки Феофил Новгородский да Вассиан Ростовский не приедут.
«Вассиан как раз меня бы поддержал», – подумал Стригин о хорошем друге их семьи – архиепископе Ростовском. Именно он когда-то послужил юному Васе Стригину примером для подражания. Да и имя монашеское взял в его честь, хотя роль тут сыграло и мирское имя князя – Василий.
Геронтий принял готовую бумагу, осмотрел ее со всех сторон, перечитал. Подумал, сделал несколько поправок прямо по тексту.
– Все одно тут помарки есть, – сказал он. – Ты возьми-ка ее с собой, перепиши заново и завтра с утра пришли мне. Я проверю и сам на собор принесу. Ты прочтешь ее перед собором и вернешь мне. Возьми. А теперь ты свободен.
Увидев, что Вассиан не спешит уходить, поинтересовался:
– Волнуешься?
– Да, господин мой, благослови!
Геронтий поднялся из-за стола и с удовольствием исполнил просьбу князя-игумена. Встречей остались довольны оба.
Поставление епископа Тверского было назначено на 6 декабря и должно было свершиться после утрени там же, где проходили все важнейшие события в жизни Русской Православной Церкви и Московского княжества – в кафедральном соборе Успения Пречистой Богоматери, в центре которого все еще стояло деревянное здание временного храма. Службу провел митрополит, присутствовали на ней все приехавшие святители. После ее завершения они удалились в митрополичью палату, там и решили дело быстро и единодушно. Затем вновь вернулись в храм, к могиле святого Петра, и тут, в присутствии прихожан, объявили результат. Первым новоизбранного благословил митрополит, затем по очереди все святители:
– Благодать Святого Духа нашим смирением имеет тебя епископом Тверским. Благодать Пресвятого Духа да будет с тобой!
Отслужили еще один молебен и, довольные собой и совершенным делом, отправились в трапезную митрополита на праздничный обед.
Не успел Геронтий переговорить с каждым из владык, решить их многочисленные проблемы и проводить по своим епархиям, как всплыло еще одно срочное дело. С севера, от князя Белозерского и Можайского, дяди великокняжеского Михаила Андреевича, пришла челобитная с просьбой утвердить в его единоличном владении Кириллов Белозерский монастырь, расположенный на его землях.
Проблема состояла в том, что все культовые учреждения, на чьей бы земле они не находились, в той или иной степени обязаны были подчиняться своему епархиальному владыке. Но в какой степени? Только ли в духовных делах или в полной мере, выплачивая налоги и принимая владычных судей? Этот вопрос всюду решался по-разному.
Кириллов монастырь находился на территории, подотчетной Ростовскому архиепископу Вассиану – государеву любимцу, который требовал у монастыря полного подчинения, суда и пошлин. Ясно, что игумену Кирилловскому это не нравилось, и он кинулся к своему покровителю, хозяину земель князю Белозерскому. Ну а Михаил Андреевич, в свою очередь, просил митрополита оградить его монастырь от посягательств Вассиана, к просьбе как будто бы присоединялась и братия Кирилловой обители.
С челобитной прибыли сам монастырский игумен Нифонт и дьяк князя Белозерского Иван Цыпля. Конечно, с дарами.
Что и говорить, дрогнуло от радости сердце митрополита: вот возможность осадить слишком уж независимого Вассиана, указать ему его место. Хотел сразу же дело решить, но, размыслив, назначил суд: пусть все идет по правилам, чтобы потом придирок не было. Однако и тут спешил Геронтий закончить дело до возвращения государя, который мог вмешаться в спор и решить дело по-своему. Не откладывая, отправил он гонца к Вассиану Ростовскому с требованием прислать объяснения по тяжбе или явиться на суд самому. И уже через десять дней назначил рассмотрение дела.
Как и предполагал Геронтий, сам Вассиан в Москву не приехал. Вместо него прибыл архиепископский дьяк Феодор Полуханов. Интересы князя Михаила Андреевича представлял его дьяк Иван Цыпля. Суд проходил в просторном кабинете митрополита, в его новой палате. Для свидетельства он пригласил двух своих бояр Фому Даниловича да Федора Юрьевича Фоминых. В уголочке скромно примостился Кирилловский игумен Нифонт. Челобитчики стояли посередине комнаты.
– Излагай свое дело, – обратился Геронтий к княжескому дьяку Ивану Цыпле.
Тот низко поклонился всем присутствующим и обратился к митрополиту, изложив суть дела:
– В последнее время, господин, вступается архиепископ Вассиан в государя моего князя Михаила в Кириллов монастырь. Хочет, господин, приставов своих слать к игумену и к братии и хочет их судить. И десятников собирается своих к ним слать, чтобы пошлины брать. В прежние же времена предыдущие архиепископы Ростовские в государя моего Кириллов монастырь не вступались, приставов своих не слали, игумена и братию не судили и пошлин не брали. А судил игуменов того Кириллова монастыря прежде отец моего государя князь Андрей Дмитриевич, а после него судил сын его, а мой государь князь Михаил Андреевич, кроме духовных дел. В духовных же делах игумена ведет архиепископ. А монахов судит сам игумен. Потому что, господин мой, Кириллов монастырь у государя моего, как у великого князя его монастыри – Спас на Москве, да Пречистая на Симонове, да Никола на Угреше.
– Иван Цыпля замолчал, аккуратно вытер рот и небольшую бородку и с видом исполненного долга поклонился. Митрополит одобрительно кивнул и обратился к представителю владыки Ростовского:
– Теперь ты отвечай!
Феодор, немолодой монах, не мешкая, начал докладывать:
– Государь мой, архиепископ Вассиан потому хочет в Кириллов монастырь приставов своих слать, а игумена и братию судить, и десятинников своих назначить, и пошлины брать, потому что архиепископия эта его. И прежние, господин, архиепископы Ростовские все так поступали.
Геронтий, неплохо знавший все обстоятельства дела, усмехнулся про себя и переспросил:
– Которые же прежде архиепископы Ростовские присылали в монастырь своих исполнителей и доходы с него имели?
Феодор оправил свою черную монашескую мантию и, чуть запнувшись, ответил:
– Прежде, господин, бывший архиепископ Ростовский Трифон поставил игумена Филофея в Кириллов, и тот грамоты ему жалованные на монастырь подавал.
Иван Цыпля, до того спокойно слушавший оппонента, встрепенулся и, не дожидаясь приглашения, парировал:
– Так и есть, господин, поставил было Трифон-архиепископ в Кириллов монастырь игумена Филофея, брата своего родного, без ведома и веления государя моего князя Михаила Андреевича. А чем это кончилось? Князь Михаил Андреевич приказал того игумена Филофея поймать да заковать. Игуменить ему запретил, а поставил в Кириллов игуменом Касьяна – по челобитью и по прошению всей братии, старцев Кириллова монастыря. Велел Касьяну лишь благословения у архиепископа взять. А судил его, как и прежде других, государь мой, князь Михайло, кроме духовных дел, которые, как известно, ведет архиепископ.
Он закончил и снисходительно покосился на Феодора, ожидая его реакции на свои убедительные доводы. Геронтий был доволен: пока все шло так, как он и предполагал. Но для порядку он все-таки еще раз обратился к Феодору:
– Ну а кроме этого примера с Трифоном, родным братом архимандрита Филофея, есть ли у тебя иные доказательства? Были ли примеры, чтобы кроме того какие-то прежние архиепископы или государь твой Вассиан в Кириллов монастырь приставов своих посылали и брали ли пошлины?
Феодор тихо покачал в знак отрицания головой и опустил ее, разглядывая торчащие из-под мантии черные носы своих башмаков. Но митрополит не унимался, заранее зная результат своих допросов и учитывая, что рядом его дьяк аккуратно записывает весь ход суда, и бумаги эти, в случае продолжения спора, возможно, придется показывать великому князю.
– Но, может быть, кому-либо из старых князей Ростовских или Белозерских или боярам старым ведомо, что прежние архиепископы распоряжались делами Кириллова монастыря?
И вновь Феодор Полуханов не смог ничего возразить, а лишь отрицательно качнул, не поднимая глаз, головой.
Фактически и обсуждать-то было больше нечего. Не ожидал митрополит Геронтий, что так легко завершится все дело. Он ведь прекрасно понимал главный довод, который мог привести представитель Вассиана: любой монастырь создается на пустом месте, фактически из ничего, порой и на ничейной земле, долгие годы, живя на подачки, на милостыню. И лишь некоторые из них, избранные Богом, постепенно встают на ноги, богатеют, обрастают собственными освоенными землями. Тогда и появляется возможность для епархиального руководства что-то с них получить. Пришло такое время и для достаточно молодого еще Кириллова монастыря. Понятно, однако, желание его лидеров, а тем паче нынешнего игумена Нифонта, человека властного и самостоятельного, избежать опеки и контроля сверху, избавиться от необходимости делиться доходами и властью с главой своей епархии, оставаться полновластным хозяином в монастыре.
Но ответчик архиепископский не смог отстоять своего интереса, потому и думать-то теперь не о чем, явное преимущество оказывалось за князем. Потому Геронтий, переглянувшись с боярами Фомиными, которые в любом случае поддержали бы его, объявил свое решение:
– Присуждаю князю Михаилу Андреевичу судить игумена Кириллова монастыря по старине, как было при отце его, князе Андрее Дмитриевиче, кроме духовных дел, братию же свою, старцев, игумен судит сам. Если же случится какое духовное дело до игумена и его призовет к себе своей грамотой архиепископ Ростовский, то он будет управлять этими духовными делами по святым правилам. Но приставов своих архиепископу в Кириллов монастырь не слать, игуменов и братию ему не судить ни в чем, десятинников не направлять и пошлины не брать.
В этот момент в голосе Геронтия проскользнули нотки торжества, он сожалел, что нет тут его старого противника Вассиана, что нет возможности насладиться властью над ним. Ну да ладно, скоро тот узнает об этом решении, придётся ему покориться.
Вот в это-то время напряженных встреч и решений и пришло к Геронтию известие от государя Иоанна Васильевича о полном подчинении Новгорода. Оно вызвало в душе митрополита противоречивые чувства, весьма далекие от торжества. Лично он ничего не выигрывал от падения независимости Новгородской республики. И даже напротив. Ведь по духовной линии новгородская епархия и без того всегда подчинялась Московскому митрополиту. Весь урожай от похода собирал один великий князь. И материальный и моральный. Власть его усиливалась, он еще более возвышался не только над своими родственниками, над братьями, но и над самим митрополитом. Могло ли это радовать Геронтия?
Второй адресат великокняжеского послания из Новгорода – вдовая великая княгиня Мария Ярославна тоже готовилась к важнейшему событию в своей жизни – к пострижению. Она собиралась сделать это давно, сразу же после смерти мужа: так поступали все великокняжеские вдовы. Но оставались совсем маленькие дети, и тогдашний митрополит Феодосий уговорил ее не спешить, поставить сначала на ноги младших детей, помочь советами старшему сыну, молодому государю. Только подросли свои дети, умерла первая супруга Иоанна Мария, остался сиротой наследник Иван Молодой, надо было заменить ему мать. Не кончались хозяйственные заботы, помогала сыну Ростовские земли объединить, давала советы, наставляла, себе уделы покупала, младших сыновей поддерживала. Но ныне здоровье стало сдавать, пришло время и о душе подумать.
Спешно доделывала Мария Ярославна мирские дела, написала завещание, навела порядок на собственных землях. Думала– колебалась, не раздать ли их сразу в наследство детям – что кому задумала, но решила погодить. Монастырь еще не могила, жить пока будет она тут же, в своем тереме, найдется время и для дел. Что ни говори, а когда матушка богата, все почтения у сыновей к ней больше, да и не только у сыновей. Решала, где оставить своих наместников, что передать в управление государю. Разбиралась с бумагами и накопившимися челобитными. Вот, к примеру, пришла грамота от игумена расположенного на ее землях Киржачского монастыря. Жаловался старец, что одолели села и деревни их обители гости незваные. Останавливаются по пути в Суздаль или Владимир многочисленные путники и паломники, требуют еды-питья, жилища, пиры устраивают. А денег не платят. Разобралась, приказала грамоту подготовить, запретила заезжать туда всяким бездельникам.
Торопилась Мария Ярославна свершить пострижение до возвращения сыновей из похода, из Новгорода. Боялась, что узнают – станут отговаривать, как это уже бывало не раз. К тому же суета начнется, пиры, торжества по поводу победы. Нет, решила не мешкать. Конечно, посоветовалась с митрополитом. Тот рекомендовал ей постричься у игумена Кириллова монастыря Нифонта, который как раз по случаю оказался в Москве.
К Кириллову монастырю имела Мария Ярославна особую любовь и почтение. Разве можно забыть поддержку, оказанную ей и ее мужу старцами обители? Когда они, члены великокняжеской семьи, изгнанные Шемякой из Москвы, униженные, почти нищие, нашли в этой обители не только приют и покой, но и поддержку, опору. Игумен Трифон – да будет благословенна его память! – освободил ослепленного ее мужа, великого князя Василия Темного, от клятвы верности и покорности, вынужденно данной им коварному братцу Шемяке, чтобы избегнуть казни или заточения. Слова Трифона: «Да будет грех клятвопреступления на мне и на моей братии!» – никогда, до самой смерти, не сотрутся в ее памяти, всю свою жизнь она будет считать себя обязанной этому монастырю своим счастьем и всем, что она имела. Оттого особенно щедрыми были ее дары и вклады в эту обитель. Минувшей осенью, продав хлеб со своих земель и собрав налоги на сумму почти в пятьсот рублей, все их она передала в Кириллов. Наказала пятнадцать лет поминать покойного старца Пафнутия и усопшего своего супруга Василия, молиться за все великокняжеское семейство.
Нынешнего игумена Нифонта Мария Ярославна знала давно, еще иноком Пафнутьева монастыря, и хотя никаких особых заслуг за ним не ведала, почитала его как настоятеля дорогой для нее Кирилловой обители. Этого было достаточно, чтобы послушать митрополита Геронтия, принять пострижение от Нифонта.
Словом, когда 27 марта пришла радостная весть от сына, Мария Ярославна готовилась к новой жизни, и через несколько дней, 2 февраля, это событие свершилось: она постриглась в инокини на своем дворе под именем Марфы.
У великого князя Ивана Молодого, оставшегося в Москве правителем вместо отца, также текла замечательная интересная жизнь. При вести о покорении Новгорода вместо радости в нем шевельнулась мальчишеская обида, что отец не взял его с собой, не дал удаль свою проявить. Но он наверстывал упущенное на ином фронте: дважды ездил на Соколиную гору, на осеннюю и зимнюю охоту. Выезжал с собаками и кречетами отцовскими – тот разрешил пользоваться его конюшнями и соколиными дворами. Обсуждал дела с оставшимися боярами и чувствовал себя взрослым и важным.
У Софьи же известие вызвало даже обиду. Она, пожалуй, лучше всех других понимала важность свершившегося, с ней первой делился Иоанн мыслями и планами о необходимости единения государства Русского, об укреплении его границ. Она поддерживала мужа и даже подогревала его честолюбие. А он ей и весточки не отписал об успехе. Митрополит, мать и сын у него на первом месте. Им письма и отчеты. А жена – в стороне. Случайно узнала о событии через митрополичьего дьяка.
Иван Молодой, пасынок, вообще с ней не разговаривал, да и она старалась с ним не сталкиваться. Мария Ярославна чаще всего находилась на своем дворе, изредка лишь заходила проведать внучек. И с митрополитом Софья общалась редко – есть у нее своя домовая церковь и свой духовник. Словом, изоляция какая-то от родичей. И от новгородского известия не радость, как должно было случиться, а одна обида.
Москва жила своими заботами. А великий князь Московский и всея Руси продолжал утверждать свою власть в Новгороде. 21 января, накануне дня своего рождения, принимал он подарки от покоренных. Снова тащили новгородцы в стан к Иоанну бочки с вином и медом, ткани, серебро, кречетов, изделия золотые и серебряные: кто что мог. Кто от избытка богатства, кто – последнюю ценность из дома, лишь бы умилостивить самодержца, отвести беду от себя и своих близких. Мало ли что было сказано сгоряча против великого князя, мало ли что могло навлечь его гнев, раздражить. Да и напраслину могли наговорить, – враги у каждого найдутся, не враги, так завистники. Зависть-то она, что ржа, многим глаза проедает, покоя не дает. Так уж лучше самым дорогим пожертвовать, авось поможет, пронесет гнев великокняжеский мимо двора.
Государь сам принимал подношения в приемной палате владыки Троицкого в Паозерье, казначей с летописцем старательно описывали каждый подарок, вносили имена дарителей. Самодержец сдержанно улыбался им, кивал, но более все молчал. Его бояре в это время все активнее заселяли и обживали великокняжеский дворец на Ярославовом дворе, но и не забывали шнырять по Новгороду, высматривали и выспрашивали. Обиды великий князь Новгороду пока никакой не чинил, людей не трогал, в том числе и самых ярых своих противников. Некоторые даже думали, что он, может быть, и вправду сдержит слово, не станет следствие разводить да виноватых искать. Хотя опыт подсказывал совсем иное. Не случайно те, кто чувствовал свою вину, – затаились.
22 января на Ярославов двор официально, как в свою собственную резиденцию, въехали назначенные государем в Новгород наместниками братья Оболенские – Ярослав Васильевич да Иван Васильевич, по прозвищу Стрига, отец недавно поставленного епископом Тверским Вассиана. Отныне им предстояло руководить жизнью Новгорода Великого, диктовать ему волю государеву. Сам Иоанн на торжество не явился, ибо в городе не на шутку разгулялся мор, и рисковать лишний раз своей жизнью он не пожелал, оставаясь в уже обжитой и достаточно удобной своей резиденции – в Троицком монастыре. Тут и отметил достаточно скромно день своего рождения.
Однако вовсе не явиться в Новгород он не мог. Приняв меры предосторожности, приказав не допускать постороннего люда в детинец, прибыл туда 29 января со всеми тремя братьями. Как исстари водится, ударил челом Софии Святой Премудрости Божией и отстоял обедню. Однако после ее завершения ни на минуту больше в городе не остался, обедать уехал в свой стан в Паозерье, пригласив владыку и всех знатнейших новгородцев к себе. Злые языки судачили, что государь не столько мора боится, сколько отравы или иного зла, впрочем, то было только ему самому ведомо. У себя, однако, он гостей многочисленных не сторонился, с удовольствием говорил с ними, ел и пил доброе вино, чем, кстати, по всеобщему мнению, не злоупотреблял.
Тут снова владыка Феофил явил Иоанну свои дары, преподнес их прямо к столу: панагию, обложенную златом и жемчугом, редкостный кубок, сделанный из огромного страусиного яйца, окованного серебром, чарку сердоликовую, тоже в серебре, бочку хрустальную, искусно серебром же оправленную, миску серебряную тяжелую, весом аж в 17 гривенок, почти полпуда! Да двести иностранных золотых корабельников. Подарки Иоанн с удовольствием осмотрел, приказал унести, владыку поблагодарил и наградил кубком доброго вина.
Да видно, не всем остался доволен государь. Не зря просиживал он в Паозерье и принимал людей самых разных, выслушивал их. Не зря шныряли его дьяки-дознаватели, проводили следствие. 1 февраля, как и опасались новгородцы, начались аресты. Первым взяли старосту купеческого Марка Памфильева. Дознался-таки Иоанн, что выступал он против него, участвовал в отправке посольства к Казимиру, заказывал оружие для обороны и призывал не отдавать Новгород великому князю. На следующий день взяли и Марфу Борецкую. Да не одну, а с любимым внуком-подростком, сыном покойного Федора. Чтобы и корня Борецких не осталось в Новгороде. А огромное богатство их приказал на себя отписать.
Приказал Иоанн наместнику своему Оболенскому Стриге изъять в управе или где найдутся все грамоты договорные с Казимиром и представить их ему лично. Побоялись посадники новгородские ослушаться приказа грозного властителя и отдали все бумаги, которые от них требовались. Изучил их Иоанн, вызвал к себе владыку Феофила: нашел в договорах и письмах к Казимиру подписи его наместника Юрия Репехова. Хитер оказался Феофил, распоряжения свои сам не подписывал, приказывал все оформлять своему наместнику. Теперь на него все и свалил, мол, не знал о заговорах и переговорах, без его ведома все делалось, лишь его именем прикрывались. Словом, сдал Репехова Иоанну с потрохами и словом за него не вступился. А сам после встречи тут же помчался, обгоняя государевых приставов, к Репехову и первым сообщил ему о свалившемся несчастье. Обещал Юрию, что, если тот промолчит, возьмет всю вину на себя, то он, Феофил, вызволит его непременно, казны своей не пожалеет.
– Ну, оговоришь ты меня, – шептал ему Феофил торопливо, зная, что вот-вот уже явятся слуги Иоанновы, – заберет супостат нас обоих, и казну архиепископскую новгородскую на себя отпишет, кто тогда за нас хлопотать будет? Я за себя-то не боюсь, далее монастырской кельи не ушлют, в худшем случае железа наложат, поделом мне, грехи стану замаливать. Я свое пожил. Мне за город наш, за людей обидно. Тебе все одно терпеть, сдашь меня, не сдашь – одинаково пострадаешь. Если же я останусь – тебе помогу и другим нашим сторонникам. Живота не пожалею, гляди, сын мой!
Юрий лишь молчал, опустив голову. А когда взяли, – и в самом деле смолчал, о Феофиле не обмолвился, взял вину на себя, и допрос, и пытку вынес. Иоанн сделал вид, что поверил, приказал оставить его в покое, в железах. В списке заговорщиков он вновь встретил имена старых своих недоброжелателей – Григория Арбузьева, Окинфа с сыном Романом, Ивана Кузьмина Савелкова. Приказал арестовать всех прежде и ныне уличенных в противодействии ему, в переговорах с Казимиром. 7 февраля всех их заковали и отправили в Москву. Вместе с Марфой-посадницей и ее последней надеждой, внучком Василием Федоровым.
На сей раз и упрашивать за них архиепископ побоялся. Утешал свою совесть тем, что надо подождать подходящего момента. Пока же сам то и дело вздрагивал да на дверь оглядывался, слыша подозрительный шум или чужие шаги, мало ли что может случиться, вдруг Репехов не стерпит, проговорится! Тут уж не других спасать – своя бы шкура уцелела! Кто ж с властью запросто расстается? Разве юродивый какой. Давно Феофил понял, что власть над людьми – самое высшее из всех наслаждений, тем паче в зрелые годы, когда иные утехи становятся недоступными.