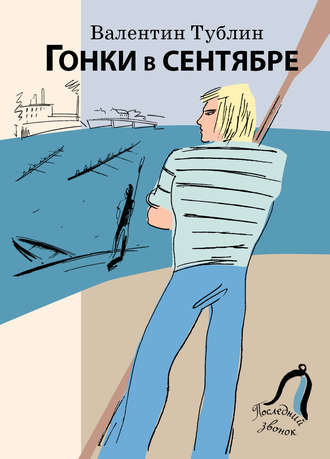
Полная версия
Гонки в сентябре
– Если ты имеешь в виду тот случай, – сказал Швед. – Ну, ту драку в парке в прошлом году…
– Вот именно, – сказал я.
Я действительно имел в виду драку на катке в парке в прошлом году. Это было такое событие, которое в жизни случается не так уж часто. Такое, которое не забудешь потом до конца дней. А началось оно с Витьки. Хотя нет, правильнее сказать, началось оно с тех пьяных гадов, которые приставали к малышам, особенно к девчонкам, приставали, сбивали их на полном ходу с ног, дразнили их и чувствовали себя при этом ужасными героями. Но самое противное было даже не это. Самое противное и отвратительное было то, что вокруг, на том же катке, толпилось до чёрта всяких остолопов, и ни один из них этому безобразию не мог положить конец. Пока в это дело не вмешался Витька.
Не знаю, что за нелёгкая понесла его в тот вечер на каток, да и он сам, поди, не знает. Он ведь и дома, в то время, когда он не спит в школе, дрыхнет всё свободное время на своём диване, если только не стоит в очереди в Ветеринарном институте, что на Черниговской, у Московских ворот, с каким-нибудь очередным бродячим псом с перебитой лапой.
Я-то думаю, что он приплёлся туда случайно. Думаю, что он в тот день выспался настолько, что мог посвятить какое-то время мыслительным процессам – и тут он, чисто случайно, мог вспомнить о катке, потому что раздевалка катка глухой своей стеной выходит на пустырь, а над раздевалкой находится кафе, и время от времени из этого кафе туда, на пустырь, выносят кое-какие объедки, которые только и поддерживают жизнь в бродячих и увечных собаках. А стоит только Витьке увидеть такую собаку, то два из трёх, что она этой ночью будет ночевать в его квартире вместе с кошками, птицами, вместе с парочкой горбатых черепах и целой стаей декоративных рыбок, с ежом и кроликом и ещё с какой-нибудь живностью.
Да, я уверен, так оно и было. Витька просто брёл по парку, едва разлепляя глаза настолько, чтобы только собаку не пропустить, и ноги сами несли его на пустырь, а поскольку было ещё чуть рановато и на пустыре он ничего подходящего не нашёл, или собаки оттуда успели смыться до его прихода, то он и решил, наверное, не возвращаться сразу домой, а подождать, подремать на свежем воздухе под звуки музыки, что доносилась с катка.
Вот тут-то, не успев толком заснуть, он и увидел, как три или четыре дурака ведут себя среди мелюзги самым сволочным образом.
Нет, нам – да и милиции тоже – так и не удалось восстановить всю картину. Ясно было только одно: В. Шнурков, когда он по-настоящему проснётся, не имеет ничего общего с тем Витькой Шнырём, который проспал все последние годы на задней парте. Мы засомневались даже поначалу, о ком идёт речь. Потому что из рассказов милиции, свидетелей и пострадавших перед нами появился не хорошо всем известный добродушный и заспанный Шнырь, а какой-то кровожадный пират, флибустьер и разбойник, который, не обращая внимания ни на численное превосходство противника, ни на то, что ему куда как неудобно было передвигаться по льду без коньков, подошёл к тому гаду из этой не то тройки, не то четвёрки, подошёл к тому из них, который просто оказался поближе, сгрёб его и, наверное, задушил бы, если бы на помощь не подоспели остальные. Тут он отложил полузадавленного гада и стал разбираться с остальными при помощи чьей-то хоккейной клюшки. На этом дело не кончилось: на помощь гадам поспешили ещё человек десять, но с другой стороны на помощь Витьке подоспел кое-кто из ребят соседней школы, случайно оказавшихся вблизи, да и у остолопов, кое у кого из них, взыграли остатки совести… Словом, трёх машин милиции едва хватило, чтобы довезти их до пикета у метро Парк Победы. Но Витька и в машине всё порывался кого-то додушить.
В пикете, конечно, разобрались во всём. Гады ничего не отрицали, да и детишки к тому времени добрели до пикета, но самое главное не это. Самое главное, что от самого героя происшествия мы не услыхали ни слова. На следующее утро он, как и предыдущие сто или двести раз, пришёл за минуту до звонка. Когда учительница истории вошла в класс, он уже сладко спал. Всё было, как всегда, если не считать того, что вместо левого глаза у Витьки была огромная лиловая клякса размером с подушку. Мало ли что может с человеком случиться. Может, он во сне упал с дивана? Но зато уж и удивились мы, когда узнали, что там было на самом деле. Но ещё больше удивились тому, что сам он, похоже, не придал этой истории большого значения. Я, как человек самокритичный и честный, должен прямо признаться, что такого случая ни за что не упустил бы.
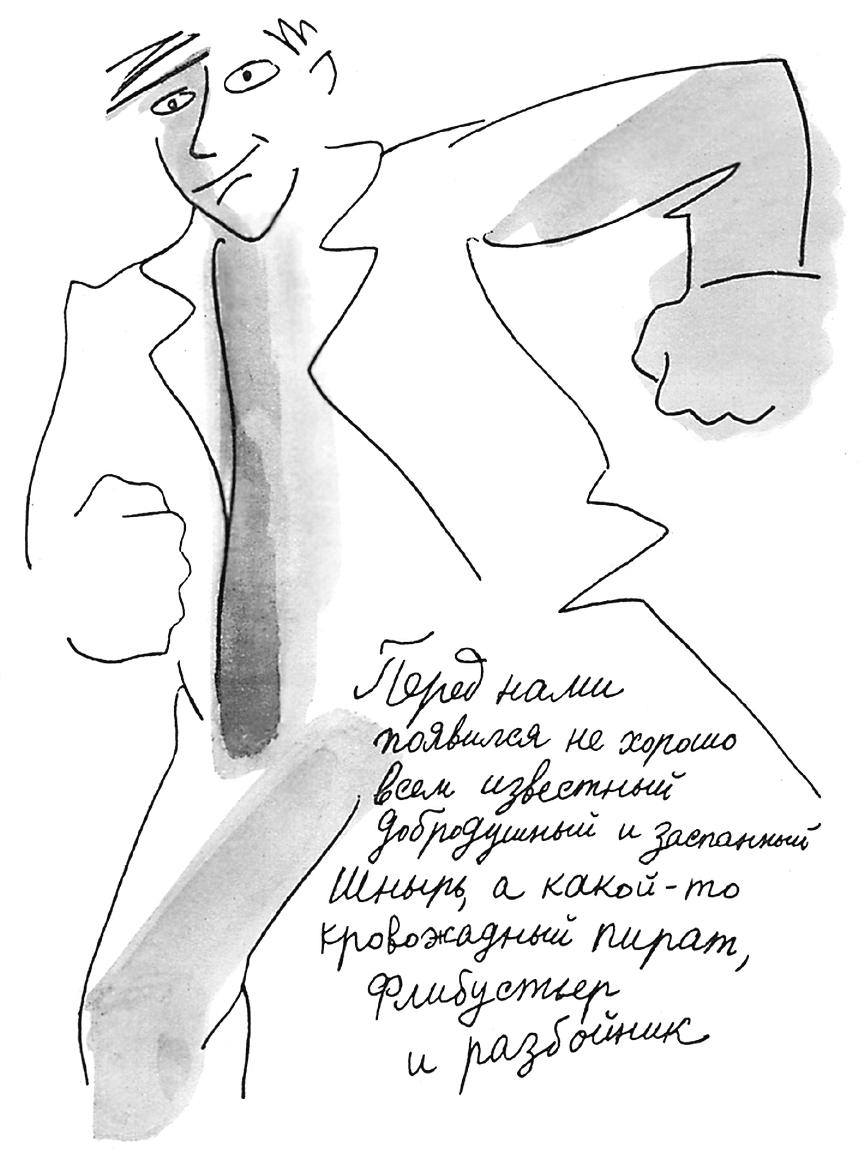
И это, пожалуй, было во всей этой истории самое удивительное.
Я часто об этом думал. И о Шныре, и о разных вариантах героизма. Вот почему оказалось вдруг, что высказанная Шведом мысль о том, что на гранитном пьедестале лет этак через пятьсот человечество могло бы увидеть некоего В. Шнуркова, личность, с нашей точки зрения ничем особо не примечательную, эта высказанная вскользь мысль показалась мне не такой уж безумной, хотя я сам предпочел бы увидеть на этом самом пьедестале всё-таки не Шныря.
О чём я Шведу и сказал.
Я сказал ему это уже по дороге в класс. Мне не терпелось поговорить со Шведом подробнее. И вот ещё что мне вдруг захотелось в этот момент: увидеть Витьку. Это можно было бы запросто сделать: он жил у своей бабушки в двух минутах от школы; наверняка он не пошёл с утра ни в какое ПТУ, можно было поклясться, что он ещё спал. Да, хорошо бы увидеть его сейчас, увидеть в новом свете, в свете предстоявшей ему в веках мировой славы. Да, в минуту, когда мы думали о нём, он наверняка спал, а мы не знали даже, снятся ли ему сны, а если снятся, видит ли он во сне своё будущее и себя самого в этом будущем.
Всё, что я рассказал, включая наш давний разговор со Шведом и мои дальнейшие мысли по поводу В. Шнуркова, покровителя бродячих собак, и то, что имело отношение к великому драматургу и поэту Вильяму Шекспиру, о котором науке, как это нередко бывает, мало что известно достоверного, всё это, говорю я, пронеслось у меня в мозгу мгновенно. Появилось, возникло, пока я, повернувшись всем телом, смотрел на нашего загребного, на Шведа. А он не замечал меня и того, что я гляжу на него. Он, в свою очередь, продолжал смотреть прямо перед собой безучастным, отрешённым взглядом. Смотрел и, как я полагал, думал о нас, о том, что же с нами такое приключится в сегодняшней гонке. Что именно и с кем именно. И хотя я, как прирождённый оптимист, не верил, что многообразие природы может быть исчерпано какой бы то ни было восьмёркой, пусть даже нашей, всего лишь за два полных года, но сегодня, именно в этот день, перед этой именно гонкой, мне захотелось вдруг подбодрить нашего загребного. Сказать ему, чтобы он перестал мучиться из-за нас, выкинул бы из головы все опасения, все заботы. Что-то мне не нравилось сегодня в нём. В той неподвижности, с которой он застыл на краю бона у самой воды. И я вдруг остро понял, как я люблю Шведа. Я даже о своей неразгибающейся спине забыл, и с этой вот дурацкой – деревяшка-деревяшкой – спиной, я пошёл по сходням…
Вот тут-то нас и поймал объектив фотоаппарата, и, когда бы я ни взял в руки этот снимок, тотчас вспоминаю всё. Даже то ощущение удивления, с которым я вдруг увидел Вовкино лицо. Да, я увидел его лицо и очень удивился, потому что это было лицо человека, мысли которого находятся очень далеко от того места, где находится он сам. И если бы я мог предположить такое, то, глядя на его лицо, я подумал бы, что его мысли в эту минуту были заняты вовсе не греблей, не гонками. Нет, я такого подумать не мог. Но всё-таки его лицо меня удивило.
Но когда я увидел, что правая рука у Шведа опущена в воду – тут я уже просто онемел. Хоть я и знал, что у него, как и у любого, впрочем, порядочного гребца, подержавшего в руках весло больше года, кожа на ладонях становится твёрже ботиночной подошвы. Но всё равно – руки мочить нельзя, это азбука.
Нет, что-то тут было не так. Со Шведом положительно что-то стряслось. И вот всё это – моё изумление, моё потрясение – очень хорошо передавал снимок. Я стою на нижнем краю сходен, и брови у меня от изумления приподняты, как крылья у петуха, собравшегося взлететь, а рот раскрыт. Я был пойман объективом в тот самый момент, когда я закричал на Вовку: „Ты что, с ума сошёл! У тебя же рука в воде!“ Я не могу понять, вернее, вспомнить, только одного. Там, на фотографии, лицо Шведа повёрнуто ко мне. Но не могу взять в толк, повернулся ли он ко мне на звук шагов или на мой голос. Наверное, всё-таки на звук шагов, потому что иначе он не успел бы попасть в этот кадр.
Нет, конечно, на звук шагов. Он посмотрел на меня тем самым непонятным, несвойственным ему отсутствующим взглядом и, не вынимая руки из воды, сказал что-то.
Но я не услышал, что.
Я увидел, что он говорит, и, показалось мне даже, различил какие-то слова, но это было не так. Это могло мне только показаться. Потому что в эту же минуту, совершенно синхронно со Шведом, динамик на балконе проревел: „ВНИМАНИЕ! ЛОДКИ ПЕРВОГО ЗАЕЗДА ПРОШЛИ ПЯТИСОТМЕТРОВУЮ ОТМЕТКУ. ВПЕРЕДИ КОМАНДА „БУРЕВЕСТНИКА“, ИДУЩАЯ ПО ШЕСТОЙ ВОДЕ“.
И динамик, и Швед начали и кончили одновременно. Швед даже кончил чуть раньше. Я стоял и смотрел на него, ожидая, что он сейчас повторит. Но он не повторил. Он молчал. Единственное, что он сделал, это вытащил всё-таки руку из воды и теперь внимательно рассматривал её. А потом перевёл взгляд на реку: посмотрел на воду, на дальний берег, на поворот, у которого через три минуты появятся лодки, потом посмотрел на динамик и нехотя, будто возвращаясь откуда-то, пробормотал: „Ветер слева. У дальней воды будет потише…“
Нет, не те это были слова, что он сказал до того. Совсем не те.
Вода стекала у Шведа с ладони, и он вытер её о безрукавку. Ладонь у него была огромная, с тарелку, и мозоли от весла были на редкость красивыми – прозрачными и жёлтыми, как янтарь, и твёрдыми, как железо, таким можно было только позавидовать. Да, вот такая это была картина. Швед смотрит на ладонь, словно желая по руке прочесть свою судьбу, а я смотрю на Шведа, ожидая, что он повторит те слова, которые были заглушены динамиком.
А вокруг, не обращая ни на кого внимания, уже начинают волноваться и шуметь болельщики: вытягивают шеи, наводят бинокли, а те, что порезвей, бегут наверх, на балкон, хотя там и так уже негде яблоку упасть. Это даже удивительно, что такое количество народу собирается на гребные гонки; никогда не скажешь, не подумаешь даже, что в городе такое количество болельщиков. Пока не придёшь на соревнования. На „Кубок Большой Невы“, скажем, или, как сейчас, на „Осеннюю регату“. Сотни людей всех мыслимых возрастов – от девяностолетних старцев, бросивших грести ещё до революции, до десятилетних шкетов из специализированных лягушатников. Конечно, всё это несравнимо по количеству с футболом, зато по качеству несравнимо тоже. Ни на каком футболе или хоккее таких квалифицированных болельщиков не увидишь. Потому что сюда собираются не футбольные или хоккейные пижоны, для которых очередной матч лишь повод, чтобы подрать глотку. Нет, здесь собираются все, кто и на смертном одре не спутает клинкер со скифом, а лопасть с вальком. Здесь все – настоящие специалисты, те, кто сам в своё время обливался потом, стирал себе и зад и руки во время бесчисленных часов, проведённых на воде в зной и дождь. Да что говорить! Я уверен, такое количество мозолей, собранных вместе, может быть в одном ещё только месте: на Хенлейской регате, в Англии. Наши ребята из восьмёрки мастеров – той самой, куда несколько раз подсаживали Шведа, – выступали там, на Хенлейской, уже три раза, и мы многое от них услышали. Да, там, пожалуй, такие же профессиональные болельщики, знающие, что к чему, особенно когда соревнуются восьмёрки Оксфорда и Кембриджа. Соревнуются с незапамятных времён – в сотый, а то и двухсотый раз. Я бы полжизни не пожалел, чтобы взглянуть. Говорят, что по берегам Темзы черным-черно от бывших гребцов, даже паралитики, мол, и те приползают в своих креслах, чтобы взглянуть на это зрелище последний, быть может, в жизни раз. И у нас приходят такие старцы. И вот они-то и есть самые активные болельщики.

Они мне очень нравятся, клянусь. Я не сразу это понял, но когда понял, то полюбил их всей душой. Мне всё равно, пусть даже никто мне не поверит. Я люблю на них смотреть, смотреть, как они приходят, как двигаются, как говорят. Для таких, как они, почётных гостей, по давней традиции, на балконе, на самом лучшем месте у балюстрады стоит удобная, широченная скамья – хоть сиди, хоть лежи. И как приятно смотреть на них в такие минуты: ведь когда они приходят – совсем старые, с палками, седые усы приглажены, в отпаренных, вычищенных костюмах, стараясь распрямить плечи, на которых словно шар земной лежит, они забывают обо всём.
Как приятно смотреть на них, и какая-то жалость прямо разрывает сердце, когда смотришь, а они приходят и тихонько, словно извиняясь, что самим видом своим напоминают безвозвратно ушедшие времена, садятся на эту свою почетную скамью и сидят, выцветшими, почти прозрачными глазами поглядывая на реку, которая, конечно же, стала совсем другой. Да, другой, неузнаваемой, безвозвратно изменившейся со времён их юности. Но так далеко и брать не надо – даже за какие-нибудь сорок, тридцать лет – и то всё изменилось, даже за те годы, что ты помнишь сам.
И вот тут ты вдруг начинаешь кое-что понимать.
Ты начинаешь понимать время.
Но без них, без этих старых людей, ты ничего бы не понял. Потому что они показывают тебе то, что ты в свои семнадцать лет не видишь сам по себе и не понимаешь. И даже если и захочешь понять, то не поймёшь, не сможешь понять до конца. Не сможешь понять, что же это за штука такая – время. А они тебе это всё показывают, потому что время – это они и есть. Потому что было время, когда старики эти не были стариками. Они ведь не случайно пришли сюда сегодня. Они тоже когда-то гребли. Это были люди, чьи фамилии в своё, для них не такое уж немыслимо давнее, время были знамениты, а кое-какие из этих имён можно и сейчас прочесть на бронзовых пластинках в кают-компании. И на стенках кубриков, и на жёлтых от времени фотографиях. Но разве можно признать в этих старых людях тех молодцеватых великанов в полосатых безрукавках и смешных, до колен, штанах?
Нет.
И вот поэтому именно, глядя на них, ты начинаешь думать, что же это такое – время. А начав думать, начинаешь его ценить. А может быть, и не начинаешь?
Потому что тебе семнадцать лет. А когда тебе семнадцать, ты не думаешь о времени. Ты и так считаешь себя взрослым. Более того – тебе не терпится стать ещё более взрослым, скорее, скорее, для того хотя бы, чтобы перейти в следующий разряд, перейти из юниоров во взрослую команду, перейти из школы, так уже опостылевшей, что и слов нет, в институт, стать, если фортуна не отвернётся, студентом, самостоятельным человеком, мужчиной. Иметь свои, заработанные деньги. Стать взрослым во всех отношениях.
Не говоря уже об отношениях другого рода…
Вот о чём заставляют подумать эти старые люди с доверчивыми глазами. Они сидят на балконе, глядят на воду в реке, которая давно уже не та; совсем не та. Они говорят тебе о жизни, и говорят о времени, и не их вина, что ты не слышишь.
Но кое-что они всё-таки тебе, глухому, помогают понять. Праздник, хотя бы. Потому что по ним, по их нетерпению ты видишь, как это много – оказаться здесь, на реке, где ветер задувает то с одной стороны, то с другой, и флаги, словно паруса, рвутся куда-то вдаль, обвисают на минуту и снова рвутся. Видеть, как солнце играет в пятнашки с тучами, и слушать хриплый бас динамика, когда он, вот как сейчас, объявляет: „ЛОДКИ ПЕРВОГО ЗАЕЗДА ПРОШЛИ КИЛОМЕТРОВУЮ ОТМЕТКУ. ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ КОМАНДЫ „БУРЕВЕСТНИКА“ И „ЭНЕРГИИ“ ДЕЛАЮТ ПО СОРОК ГРЕБКОВ В МИНУТУ“.
И в эту же минуту все смотрят на вышку. Что это ещё за растяпа забрался туда? Кто же говорит так – сорок гребков. Сорок ударов – так должен был он сказать, сорок ударов, и никак иначе. Позор! Вечно в радиорубку лезет всякий, кому не лень.
Старички, волнуясь, привстают. Их плечи, согнутые бесчисленными годами жизни, расправляются совсем по-молодому. И глаза у них блестят, выцветшие дальнозоркие глаза, когда, привстав и поднеся ко лбу ладони, старики смотрят на поворот. Сейчас, сейчас покажутся лодки, вот-вот…
И этот живой, неугасающий интерес – тоже урок нам, так избалованным всем на свете, в том числе и праздниками. Где лодки? Их нет ещё, их ещё нет. Я смотрю на Шведа – он опять опустил руку вниз, лица его мне не разглядеть… Уж не заболел ли он, на самом деле?
Но в этот момент появляются лодки. Даже если не смотреть на воду, это становится ясно в ту же секунду, когда они возникают в поле зрения. Это можно определить на слух по тому шуму, который возникает на трибунах. Это похоже на порыв ветра в лесу. Шум и крики несутся навстречу лодкам и становятся всё громче по мере того, как лодки приближаются. Но эти крики ничего изменить не могут. Более того – они почти неразличимы для тех, кто сидит сейчас в лодке, напрягая все свои силы. Для них этот шум и эти крики – лишь гул ветра в листве, им сейчас не до криков, им только бы не отстать сейчас от загребного, не проворонить, не упустить момент, когда загребной, тоже из последних сил, начнёт последний финишный спурт. Вот тут-то они должны поддержать его, подхватить, прибавить… И тут уж им не до криков, которые для них не более чем общий фон, как свет солнца или плеск воды. У них там, в лодке, поди и мыслей-то никаких нет; только бы дойти до финиша, дотянуть, дотерпеть…
Сколько раз я видел всё это. Сколько раз сам гонялся, а привыкнуть к тому, как финишируют лодки, никак не могу. Пусть даже в этом заезде наших лодок нет, пусть там все чужие – всё равно сердце начинает стучать сильнее и сильнее, дыхание прерывается и во рту становится сухо. В этот момент я там, в лодке, с ними.
Трибуны уже кричат вовсю – финиш! Всё решится сейчас; и вот по первой воде, ближней к бону, начинает финишный рывок, спурт, на последних ста метрах взвинчивая темп, восьмёрка с красно-белыми лопастями. Это „рыжие“, восьмёрка „Спартака“, у которых загребным рыжий такой сухопарый детина, а на руле его сестрёнка, такая же рыжая, а может, и не сестрёнка, а родственница, а может у них в „Спартаке“ просто мода на рыжих. Да, вот и сейчас она на руле, отчаянная рыжая девчонка, тоненькая, как карандашик, в зюйдвестке с откинутым капюшоном. Она не сидит у себя на корме, как остальные рулевые, как ей положено, а вскочила на сиденье, на кормовую банку и, рискуя при каждом гребке сыграть за борт, кричит голосом, таким пронзительным, что даже у зрителей мороз по коже:
– И-раз, – кричит она, – и-р-раз, и-р-раз – второй номер! – и-р-р-раз!
И при каждом гребке её шатает, словно при землетрясении.
Чёртова девчонка – на неё нельзя было смотреть равнодушно. И зрители с трибун, в такт гребкам, начали скандировать: „Спар-та-ки, спар-та-ки“!.. А те и рады стараться, нет, молодцы, раскручивают греблю и раскручивают, показывая, сколько можно выиграть на одном финише. А потом рыжая показала, что она не только кричать умеет, показала, что может сделать настоящий рулевой. До последней секунды она всех отжимала налево, друг на друга, а потом потянула руль и погнала восьмёрку прямо на бон. Со стороны могло показаться, что это не гребцы, а просто смертники какие-то, или что рыжая девчонка свихнулась, сошла с ума: лодка шла прямо на бон, на то место, где находились мы со Шведом. Тут даже его проняло, и он поднял голову, и так мы стояли в полном остолбенении и смотрели, как спартаковская восьмёрка с каждым ударом росла, приближалась, вырастала на глазах, а эта рыжая, чертёнок, ни на сантиметр не уходила от прямой, гнала огромную лодку прямо на бон и звенела своим пронзительным, чуть подсевшим от напряжения голосом: „Р-раз, и ещё, и-р-раз, и ещё“. А потом, метров за сорок, когда уже и нам со Шведом стало казаться, что нет, не справиться ей, снова потянула руль так, чтобы пройти впритирку, и так закричала: „Всё! Всё!“, что старички на балконе только что не попадали со своей скамьи.
И тут же ударил колокол.
Это действительно было всё!
Нет, честно говорю, это был заезд что надо. У меня даже спина согрелась. То, что заезд был классный, видно было хотя бы по тому, что в спартаковской восьмёрке сразу после того, как прозвенел колокол, двое – на третьем номере и на седьмом – уронили головы на валёк и не могли даже пошевелиться. А рыжая девчонка, как ни в чём не бывало, сидела уже, где ей и положено было сидеть, и капюшон у неё был надвинут на самый нос. Я ничуть не удивился бы, если бы оказалось, что там, под капюшоном, она сейчас вытирает слёзы. Это бывает. И не только с маленькими девочками, это от напряжения. А она могла плакать даже у всех на виду, никто и слова бы не сказал. Ведь их восьмёрка на финише выиграла у „Буревестника“ четверть корпуса, и они были в финале, а остальным, в том числе и „Буревестнику“, оставалось либо пробиваться через утешительные заезды, либо ждать до следующей регаты.
Я так загляделся на этот сумасшедший финиш, что совсем забыл о Вовке. Но он обо мне не забыл. Я только хотел спросить его, как ему понравился этот спартаковский финиш и запомнил ли он, с какого именно места рыжая крикунья взяла резко вправо – у бонов ли „Пищевика“, где всегда выруливались на последнюю прямую мы сами, или чуть дальше, как сегодня показалось мне, но Швед меня опередил. Я ещё рот не успел раскрыть, как он уже встаёт, распрямляется во весь свой рост, и, глядя куда-то в сторону, не на воду даже, а мимо моего уха, спрашивает – запинаясь как-то и чуть ли не заикаясь:
– Cepёгa, – говорит он, – Мурик. Когда я был у тебя в последний раз?
– То есть? – говорю я в полнейшем недоумении. – Что значит – когда? Позавчера ты был у меня, в пятницу.
– В пятницу? – врастяжку говорит Швед, и мне показалось, что Вовка покраснел. Нет, конечно, мне почудилось.
– Так это было в пятницу…
– Ну что ты заладил? Ну, в пятницу. Позавчера. Да что с тобою, Вовка? Что с тобой происходит? В пятницу. Ты ещё зашёл за мной с утра, а накануне к нам приехала Ира…
Но он уже не слушает меня и не смотрит. Он смотрит мимо моего уха на мост, и выражение лица у него такое, словно я Шехерезада и рассказываю ему сказку про Синдбада-Морехода. Да, взгляд его устремлён мимо меня, вроде бы даже на мост, но вполне вероятно, что там, куда он смотрит, никаких мостов нет. И если бы я знал, что такое возможно, я сказал бы, что на лице у Шведа отражено смятение чувств.
А он, Вовка, Швед, глядя мимо меня, видя то, что видно только ему одному, всё повторял: „В пятницу? Позавчера? А ты не спутал, не ошибся?“
* * *Неужели это было в пятницу?
Он смотрел в лицо своему лучшему другу, смотрел прямо в глаза Мурику, Серёге – он понимает что-нибудь? Догадывается? Но в глазах у Мурика не было ничего, кроме недоумения. Он явно ничего не знал и ни о чём не догадывался, и Швед мог вздохнуть спокойно. Нет, Cepёгa, знавший его едва ли не лучше, чем он сам знал себя, похоже, действительно, ничего не понимал. Что ж, тем лучше.
А впрочем, именно Cepёгa мог бы его понять. Если не он, то кто же? Так что на какое-то мгновение Швед (он так привык к этому имени, что, пожалуй, думая сам про себя, тоже называл себя Шведом) даже подосадовал на недогадливость Мурика. А потом представил обратное – что Мурик всё знает. Ему стало так жарко, что он сразу понял, как ему повезло, и только не знал, чему всё же следует больше радоваться – Серёгиной ли недогадливости или счастливому стечению обстоятельств, финишу, скажем, спартаковской восьмёрки.
Нет, это было всё-таки удивительно. Как можно было в эту минуту думать о гонках, даже о таких, как эта осенняя регата? Нет, это неверно. Он, Швед, сам тоже думал о регате, он не забывал о ней, не мог, не имел права о ней забывать. Но вместе с тем не только регата, но и всё остальное в мире с некоторых недавних пор, с пятницы, отошло с переднего плана куда-то вдаль. Скрылось в этой дали, исчезло в какой-то дымке, словно между миром и им самим поставили какую-то прозрачную преграду. Что это было такое, что это была за дымка и что за преграда, он, Владимир Малышев, не знал.
Неужели это было в пятницу?
Нет, невероятно. Он этого не понимал, он спрашивал себя – как же это всё было, как это вообще могло быть. Вот он говорит себе – в пятницу, это было в пятницу, а ничего понять не может. Ну, например, если он спросит себя, – а что было раньше, до пятницы? И ничего не ответит. А ведь было что-то, не могло не быть.
Тогда он себя спрашивает – ну, хорошо, того, что было, он не помнит. Но сосчитать, сколько дней прошло с тех пор он может? Ну, так сколько же? Пятница, суббота и вот сейчас уже полдня. Два с половиной? Целых два с половиной? Ему – он чувствовал это – трудно было тут судить. Потому что, с одной стороны, он совсем не ощущал этих двух с половиной дней, в которых как-никак было всё-таки шестьдесят часов. И каждый час пришлось ему прожить с того самого утра, в пятницу. Если только это действительно была пятница. А ведь каждый час содержал в себе целых замечательных шестьдесят минут, необыкновенных, прекрасных шестьдесят минут!





