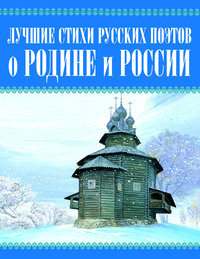Профилактика экстремизма в системе образования. Сборник материалов Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации. Выпуск 1
 полная версия
полная версияПрофилактика экстремизма в системе образования. Сборник материалов Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации. Выпуск 1
Жанр: гуманитарные и общественные наукипедагогикасборник статейсборник рассказовэкстремизмпрофилактика правонарушенийорганизация образования
Язык: Русский
Год издания: 2018
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля