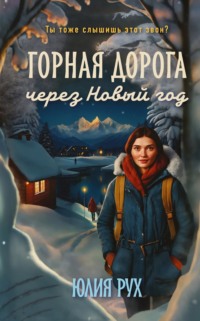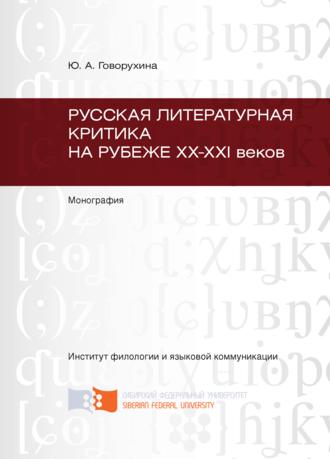
Полная версия
Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков
Исследование литературно-критической практики на стыке герменевтико-онтологического и коммуникативного подходов позволит увидеть феномен интерпретации одновременно на стыке двух актов – (само)понимания как процесса онтологизации и передачи (продления) направленного онтологизирующего импульса реципиенту.
Комплексный методологический подход позволяет по-новому осмыслить структуру литературно-критической деятельности.
Теория критики периода 1970 – 1980-х годов имеет опыт представления литературно-критической деятельности как структурированного процесса50. Обязательными компонентами описанных структур являются автор/произведение – критик – читатель. Срединное положение критика закономерно выводило исследователей к пониманию критики как диалога (с автором и читателем). Однако теория критики осваивает практически исключительно первый сегмент структуры в направлении от критика к литературному явлению. Фигура реципиента мало учитывается либо вообще игнорируется в исследованиях о методе и средствах литературно-критической деятельности, о диалектике субъективного и объективного.
Исторически слово «критика» обладало множеством значений и их оттенков51. Сегодня из всего множества изначальных семантических вариантов актуальным является «судить» – емкое толкование, включающее в себя два смысловых компонента: истолковывать и оценивать. Они лежат в основе тех традиционных определений литературной критики, которые зафиксированы в словарях и энциклопедиях52, однако охватывают только один сегмент теоретически сложившейся модели критики.
Синтез герменевтико-онтологической и коммуникативно-прагматической парадигм исследования позволяет охватить все компоненты деятельности литературного критика, а также создать и описать обновленную модель литературно-критической деятельности.
Бесспорным является положение о том, что литературная критика – это, прежде всего, вид критического суждения, которое, в свою очередь, является видом суждения как такового. Суждение, в отличие от высказывания, всегда модально и носит оценочный характер. Критическое суждение в качестве формы мышления осмысливается в Новое время. Так, И. Кант выделяет критику в самостоятельную форму исследовательской деятельности, однако называет ее не познанием, а только средством выявления внешних условий, предпосылок и возможностей познания, его границ. К идее плодотворности негативной критики в процессе познания приходит марксизм53. Литературно-критическое суждение оказывается таким видом критического суждения, который предполагает в качестве объекта литературу и отраженную в ней действительность.
Критическая деятельность рассматривается нами как особый вид акта понимания и коммуникации, который в снятом виде присутствует уже на первом этапе (интерпретации и оценки). Специфика деятельности критика в ее разнонаправленности, обусловленной промежуточным положением критика между художественным произведением как образно воплощенным художником «ответом» в процессе интерпретации бытия; самим автором как «вопрошающим»; читателем как носителем своих «вопросов» и «ответов»; самим собой вне роли критика, продуцирующим «вопросы». Критическая деятельность – это и прагматический коммуникативный феномен, проявляющийся в некотором типе ситуаций коммуникативного взаимодействия, в которых коммуникатор, руководствуясь конкретными практическими целями, озабочен доведением до сведения адресата определенной информации54.
В данном исследовании мы опираемся на идею диалогичности понимания. По мнению В. М. Розина, важным для гуманитарного познания является различение двух его планов: истолкование (интерпретация) текстов и построение ментальных объяснений и их текстовых воплощений55. Считаем, что положение о том, что изначальная ориентированность текста на Другого, его коммуникативный характер определяют содержание и структуру как критического текста, так и самой деятельности. В нашу задачу не входит рассмотрение процесса восприятия критического текста читателем, в то же время фигура читателя представлена как важный структурообразующий фактор, вокруг которого формируется коммуникативная модель.
Рассмотрим структуру критической деятельности, особенности которой обусловлены ее интерсубъективной природой, и опишем ее основные компоненты. Отправной точкой для нас является классическая триада – модель функционирования литературного произведения как вариант общей схемы коммуникативного акта (адресанттекст-адресат): Автор – Художественное произведение – Читатель, каждый компонент которой структурируется. Так, в структуре компонента Читатель как некоего множества реципиентов традиционно выделяют как минимум две основные группы: профессиональные и непрофессиональные читатели. К числу «профессиональных» относят критика, чья рефлексия по поводу прочитанного/ наблюдаемого в конкретном тексте или в литературном процессе оформляется в критическом тексте, также особым образом структурированном и адресованном своему множеству реципиентов. Образование новых компонентов (еще одного текста, еще одного множества реципиентов) уже свидетельствует о том, что, выводя из указанной выше триады Критика, мы получим сложную развернутую модель критической деятельности, основанную на интерсубъективном взаимодействии. Выделим основные ее сегменты, направления воздействия и взаимодействия.
Первый сегмент структуры (ее активное изучение начинается с включением в область познания категории читателя) может быть описан следующим образом: определенная авторская интенция, ориентированная на читателя, реализуется в художественном произведении. Художественный текст одновременно является и частью бытия, открытого для понимания, и авторским вариантом интерпретации бытия. Включая в себя собственно текст и художественную реальность как необходимые компоненты, художественное произведение функционирует во множестве интерпретаций и восприятий, обусловленном множественностью потенциальных реципиентов. Объект нашего изучения – вариант коммуникативной цепочки, в которой реципиентом является литературный критик. Эстетическое восприятие художественного произведения критиком будет существенно отличаться от восприятия группы непрофессиональных реципиентов. Причина – разница не только в профессиональной подготовленности, опытности критика и зачастую наивно-эмоциональном уровне восприятия массового читателя, но и в различии целеполагания, интенции, направленной в критической деятельности не только на художественное произведение и бытие (интерпретационная деятельность), на себя (момент самоинтерпретации), но и на некое «свое» множество реципиентов. В то же время эти восприятия имеют нечто сходное, обусловленное единой природой эстетического переживания и единой ситуацией понимания как способа бытия (М. Хайдеггер). Иными словами, типы восприятия можно условно обозначить как «восприятие-для-себя» (в случае массового читателя) и «восприятие-для-другого-и-для-себя» (в случае критика). Показательным в этом смысле является признание критика А. Марченко: «И “День поэзии-86”, и “День…” следующий я прочитала дважды. Сначала для себя: то с конца, то с середины, перепрыгивая через то, что не приглянулось (не тронуло) по первой же строфе, а то и строчке. Потом, через некоторое время, профессионально-педантично: подряд и медленно»56.
В процессе интерпретационной деятельности критик, имея установку на реципиента и «свой вопрос», который обусловила экзистенциальная и коммуникативная ситуация, создает ментальную и/ или ментально-текстовую модель (первичный текст) интерпретации, уже ориентируя его на читателя. Здесь необходимо выделить следующий сегмент и следующее направление взаимодействия в структуре критической деятельности: Критик – Критический текст – Читатель. Этот сегмент в некотором смысле повторяет первый (Автор – Художественный текст): наличие определенной интенции, направленной на реципиента, текст, в котором эта интенция реализуется, читателя как множество. Такая формальная корреляция, между тем, корректируется специфическими особенностями, присущими критической деятельности. Так, например, множество Читатель включает и писателя. Непосредственные обращения к нему в текстах современной литературной критики редки, однако, включенный во множество реципиентов, он оказывается тем наблюдателем, который подразумевается и влияет на протекание диалога («эффект двойного диалога»57).
Читатель может быть знаком с интерпретируемым художественным произведением, и это первичное личное восприятие входит в область пред-знания реципиента. В таком случае коммуникативно-прагматическая интенция критика будет направлена на ценностные, общественные и другие ориентиры/стереотипы реципиента, возможно, с целью изменить их или внушить свои (свои критерии оценки как верные, свое представление об общественной проблеме, нашедшей отражение в произведении, как верное), и на то возможное представление/суждение о произведении, которое уже имеется в сознании реципиента. По сути, мы имеем следующий сегмент: художественное произведение в восприятии критика – художественное произведение в восприятии читателя. Очевидно, что восприятие критика эксплицитно (и имплицитно) представлено в тексте критической статьи и аргументируется (с разной степенью использования специального инструментария). Все другие «восприятия» присутствуют имплицитно как возможные «чужие прочтения». Но они могут быть и эксплицированы. Критический материал дает многочисленные примеры экспликации так «чужого мнения»: точки зрения критиков, с которыми спорит/согласен автор статьи; мнения/ощущения массового читателя, (не)истинные, глубокие/поверхностные. Читательское прочтение художественного произведения и прочтение критика – (само)интерпретации – «встречаются» в критической статье, а более явно в сознании реципиента, когда его «ответ» будет соотноситься с «ответом» критика. Можно сказать, что в сознании читателя сходятся (конфликтуют/соотносятся) две интенции: писателя и критика. Определим это явление как конфликт преобразующих установок.
В результате критической деятельности появляется еще одно читательское прочтение. В этом смысле «жизнь» (функционирование) художественного произведения в рамках критической деятельности представляет собой сложный процесс трансформации/приращения/ утраты смысла в ситуации интерсубъективного взаимодействия.
Возможно варьирование рассмотренного сегмента в том случае, когда личная интерпретация критика отличается от представленной им в тексте (явление «заказной» критики). В этом случае место в рассматриваемой структуре займет «вторичный» текст и механизм функционирования структуры не нарушится. Появится лишь новое обстоятельство коммуникации, которое определит интенцию критика. Объектом интерпретации критика может быть не художественное произведение, а то или иное явление, тенденция литературного процесса. В этом случае редуцируется компонент Автор, а само явление может рассматриваться как текст, выполняя ту же функцию в структуре критической деятельности, что и художественное произведение.
Выделим из общей модели компонент Критик и рассмотрим его функционирование на первом этапе критической деятельности.
Критик как субъект критической деятельности имеет свою структуру. В данном случае мы не рассматриваем структуру сознания субъекта познания58, нам важен момент структурирования в коммуникативном аспекте, обусловленный ситуацией интерсубъективного взаимодействия. Понятие интерсубъективности принципиально значимо для нас, поскольку выделяемые уровни структуры будут непосредственно соотноситься с направлениями интеракции. Вслед за М. Бахтиным, Г. Хайдеггером, Ю. Хабермасом, мы понимаем интерсубъективность не только как признак коммуникативной деятельности, но и как необходимое начало познания59.
В качестве активного компонента структуры критической деятельности критик (субъект) начинает функционировать в момент целеполагания60. Однако необходимо подробнее остановиться на той предструктуре, которая во многом определяет и содержание целей, и процесс критического суждения и оценки. Речь идет о коммуникативно-прагматическом контексте как условии понимания. Изучение этого компонента сопряжено с рядом трудностей, так как мы не располагаем достоверными сведениями о психическом состоянии, действительных мотивах критика в момент, предшествующий и совпадающий с интерпретацией и ее фиксацией. Сложность, в ряде случаев невозможность верификации выводов, к которым приходят исследователи, изучающие феномен «предпосылки», порождают критику в адрес прагмалингвистики, рецептивной эстетики. Однако интерес к этой проблеме познания – естественный результат развития эпистемологии. По мнению Е. Н. Ищенко, выйдя к новой неклассической (коммуникативной) парадигме познания, эпистемология (Ч. Пирс, Р. Барт, К. Аппель, Ю. Хабермас и др.) признает невозможность беспредпосылочности человеческого познания (изучает проблему предпосылок и оснований познания, приходит к мысли о том, что гуманитарное познание предпосылочно по природе своей, и «слой» этих предпосылок имеет сложную структуру)61. Факт наличия неосознаваемого, дорефлексивного («экзистенциального») уровня как горизонта предпонимания признают сегодня в качестве аксиомы представители коммуникативного направления в лингвистике, прагмалингвистике, в рецептивной эстетике, функциональном литературоведении, герменевтике62.
Таким образом, еще до момента осознанного пребывания в статусе субъекта критической деятельности, критик может быть рассмотрен в ситуации «коммуникативного контекста». Понятие «коммуникативный контекст», или «прагматический контекст» – теоретическая и когнитивная абстракция. Составим теоретическую модель контекста, предшествующего процессу планирования адресантом своей «коммуникативной партии». Описание коммуникативного контекста необходимо вести в двух плоскостях: первая охватывает совокупность пред-посылок, пред-рассудков, присущих субъекту коммуникативной деятельности (критику); вторая касается особенностей «рецептивной ситуации» определенного историко-культурного периода. В коммуникативном контексте выделяются осознаваемые и неосознаваемые предпосылки будущей интерпретационной и текстопорождающей деятельности. К бессознательным предпосылкам относим языковую компетентность субъекта, национальную принадлежность, биолого-физиологические данные, психологический тип, национально-ментальные стереотипы, фреймы и сценарии, «ситуационные модели» (Т. ван Дейк), находящиеся в эпизодической памяти и репрезентирующие предшествующий опыт коммуникации вообще, критической деятельности, знание о «рецептивной ситуации». Осознанные и чаще всего вербализуемые далее в тексте критических статей предпосылки: социально-культурный, профессиональный статус, текущее эмоциональное состояние, вкусы, политические воззрения, представление о статусе критики/литературы на сегодняшний день, способ интерпретации и текстообразования, мнения о конкретных писателях/ произведениях, ценностный ориентир. Позиция критика как «вопрошающего» может быть как осознанной, так и бессознательно предполагаемой.
Данный прагматический контекст динамичен, может меняться в ходе критической деятельности. Так, уже в момент появления мотива, целей деятельности некоторые из перечисленных предпосылок будут актуализированы, а сам ряд иерархически выстроен, пополнен (в частности, моделью коммуникативного контекста реципиента).
Теория критики, касаясь вопроса мотива критической деятельности, чаще всего представляет нам так называемые идеальные, долженствующие мотивы. Нередко подобные мотивировки встречаются и в текстах самих критических работ. Однако не исключен фактор ангажированности литературной критики, о котором пишут сами авторы63. Момент ангажированности, а следовательно, присутствия «скрытого мотива» существенно важен для нас в осмыслении структуры критической деятельности в ее коммуникативно-прагматическом аспекте. Будем различать два вида интенций в рассматриваемой модели. Первая – вербализованная, вторая – скрытая, присутствующая имплицитно, прагматическая. Они вычленяются из текста критической работы, но разными методами. Обе определяются мотивами и целеполаганием. Этап целеполагания, структурно и содержательно важный для всего механизма критической деятельности и деятельности вообще, по мнению В. А. Карташева, «является императивом для всех других компонентов»64.
Одна из определяющих целей в структуре критической деятельности – убеждение, воздействие. Эта цель, вероятнее всего, должна рассматриваться как еще один компонент пред-знания, сформированный исторически, генетически восходящий к периоду нерасчлененного существования критики и риторики. Наличие убеждения как сверхцели обусловлено особым типом дискурса, к которому принадлежит критика. Литературно-критическое высказывание может быть рассмотрено как вариант ментатива (ментатив – класс дискурсивных практик, которые «не просто информируют о состояниях или процессах бытия или мышления, но предполагают – в качестве следствия коммуникативного события – некоторое ментальное событие (изменение картины мира) в сознании адресата»65). Литературно-критическая ментативная деятельность как деятельность коммуникативная обусловлена референтными, креативными и рецептивными коммуникативными условиями, или «дискурсивными компетенциями»66, определяющими коммуникативную/ риторическую стратегию критического высказывания.
Референтные условия литературно-критического варианта ментатива проистекают из концептуализации в критическом тексте референтного содержания, его «разворачивания», конкретизации для Другого. Референтным содержанием литературно-критического высказывания является интерпретация, понимаемая нами в широком герменевтико-онтологическом значении. Одним из дискурсивных условий является притязание критического суждения на общезначимость, недискуссионность. Это условие требует использования системы риторических приемов. Другим референтным условием становится наличие в критическом суждении оценки. Убеждение читателя в ее авторитетности предполагает обращение к области ментального.
Критическое высказывание характеризуется тем, что говорит не о целостном смысле литературного явления, а об актуальном для критика/ критического направления/журнала. «Вычитанный» смысл, сопряженный с эстетическими, ментальными, экзистенциальными установками критика, лежит в основе референтного содержания. Кроме этого референтную компетенцию литературной критики как ментатива составляет мнение (не знание).
Рецептивные условия литературно-критического высказывания совпадают с условиями ментативной дискурсии как таковой. Для нее характерна развитая рецептивная интенция67. Рецептивная компетенция литературно-критического дискурса определяет круг возможных реципиентов, которые могут адекватно воспринять авторскую интенцию. У толстожурнальной критики такой круг неширок, в то же время названная компетенция не требует основательных специальных знаний и навыков, поэтому критик как профессиональный читатель находится ментативно в выигрышной позиции.
Одним из правил инвенции в риторике является зависимость успеха речевого воздействия от общего интереса, который движет собеседниками. Такой общей областью интересов адресанта и адресата литературной критики является интерес к современной литературной действительности (от профессионального до любопытства), в котором могут доминировать интерес к частному мнению/оценке, к литературному факту в его связи с социальными процессами, желание «проверить» свою интерпретацию литературного явления, свои «вычитанные» смыслы, «ответы» с представленными в критическом тексте (соотнести свое дорефлексивное понимание с вариантами отрефлексированного) и шире – онтологически критика и читателя объединяет общая позиция «спрашивающего». В первой половине 1990-х критика укрупняет свой предмет, чтобы максимально расширить область совпадения интересов. Осваивается явление масслита, востребованного читателем, одним из доминирующих объектов в это время становится общественное сознание, толстожурнальная критика (особенно журнала «Знамя») выходит к осмыслению острых экзистенциальных вопросов.
Реципиент литературно-критического дискурса – читатель элитарный, заинтересованный в получении авторитетного суждения о литературной действительности и ее фактах. Одной из его компетенций должна быть способность приблизиться к ментальности субъекта критического суждения, а также способность принять специфическую систему, логику аргументации в критическом тексте, допускающую большую долю субъективности, эмоциональности. Цель критика – обрести единомышленников, поэтому в рецептивную компетенцию литературно-критического дискурса входят солидарность мышления и со-чувствование.
Критический дискурс конструктивен, поэтому важную роль в литературно-критическом ментативе играет креативная компетенция. Критика осваивает неизученный литературный материал, формируя металитературный контекст. Креативная компетенция критического дискурса состоит в конструировании «литературного пейзажа», выстраивании ценностных иерархий/критериев, в инновационности металитературного языка, на котором осуществляется все множество критических суждений, в корректировании и формировании новых ментальных представлений. Принадлежность литературно-критического высказывания к ментативному дискурсу и особенности его коммуникативных условий объясняют значимость прагматической компоненты целеполагания, направленной на убеждение.
Выделим и другие цели, располагая их не иерархически-соподчиненно, поскольку в зависимости от мотива та или иная целеустановка может стать доминирующей. Первая цель формулируется нами исходя из герменевтико-онтологического представления о «понимающем бытии». Цель критика – изначально – познать литературное явление как часть бытия. Вторая цель соотносится с литературным явлением как сегментом критической деятельности – интерпретировать художественное произведение/литературное явление с использованием того или иного способа/метода познания в аспекте, заданном мотивом. Момент интерпретации, напомним, неотделим от самоинтерпретации. Реализация этой цели предполагает создание ментальной модели (первичного текста) интерпретации. Результатом интерпретации может стать реконструирование «вопроса» автора или образа автора как «вопрошающего». Третья цель, выделяемая теоретически как отдельная, но в момент реализации совпадающая с предыдущей, – оценка художественного произведения/литературного явления в соответствии с представлениями об эстетическом идеале, своим представлением об «ответе», эстетическим вкусом, либо, как вариант, в соответствии с заданной оценкой. Четвертая – порождение критического текста, реализация авторской интенции. Пятая – осуществление ментальных, поведенческих изменений в реципиенте. Отдельные целеполагания могут редуцироваться, осознаваться как первостепенные или второстепенные в зависимости от мотива. Критерием типологии интенций в их связи с целеполаганием становится степень осознанности, приоритетности той или иной цели, с одной стороны, и интенсивности привлечения интерпретируемого и оцениваемого материала, с другой.
Аналитико-ориентирующая интенция, условно вербализуемая в действиях «изучить, проанализировать, проследить и т.п.», реализуется чаще всего в жанре обзора, критического разбора, статьи, заметок. В чистом виде она представлена в научно ориентированной критике, сосредоточенной на анализе литературного явления. Выходы за пределы интерпретируемого объекта подчинены логике аргументации и не являются самоцелью. Примером критических работ, в которых реализован данный вид интенции, служат статьи А. Моторина «Лирический прилив» (Новый мир. 1992. № 9), М. Липовецкого «Современность тому назад» (Знамя. 1993. № 10), Е. Иваницкой «Постмодернизм = модернизм?» (Знамя. 1994. № 9), А. Ранчина «”Человек есть испытатель боли…” Религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм» (Октябрь. 1997. № 1), И. Роднянской «Сюжеты тревоги. Маканин под знаком “новой жестокости”» (Новый мир. 1997. № 4), А. Уланова «Медленное письмо» (Знамя. 1998. № 8) и др.
Структура цели в текстах с аналитико-прагматической интенцией организована следующим образом: доминирует аналитическая цель (интерпретировать то или иное литературное явление), аксиологическая становится второстепенной либо редуцируется, собственно прагматические целеустановки присутствуют, но не определяют коммуникативную стратегию.
Полемически-прагматическая интенция («оспорить, дать оценку, доказать свою точку зрения, убедить, внушить и т.п.»). Данная интенция характерна для критических работ в жанре полемической статьи, критического разбора с высокой степенью оценочности. Этот вид интенции объединяет статьи Л. Лазарева «Былое и небылицы» (Знамя. 1994. № 10), Н. Елисеева «Гамбургский счет и партийная литература» (Новый мир. 1998. № 1), В. Камянова «Игра на понижение. О репутации “старого искусства”» (Новый мир. 1993. № 5), Н. Ивановой «Неопалимый голубок. “Пошлость” как эстетический феномен» (Знамя. 1991. № 8) и др. В них актуализирована установка на адресата как объекта воздействия. Интерпретируемый материал, как правило, используется в качестве повода для обсуждения не собственно литературных, а социальных проблем, в качестве дополнительного средства аргументации.