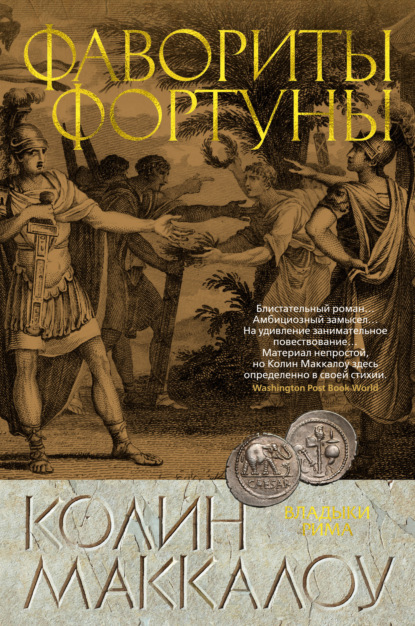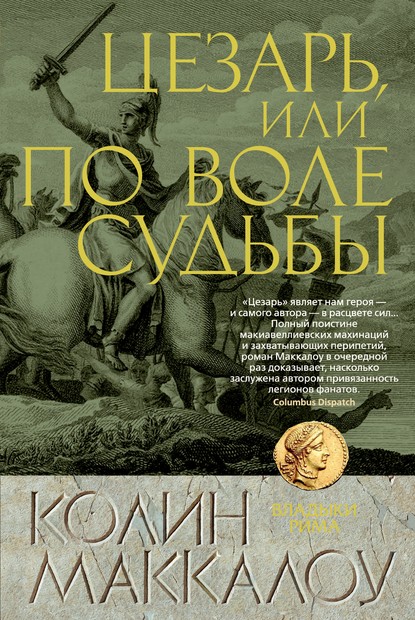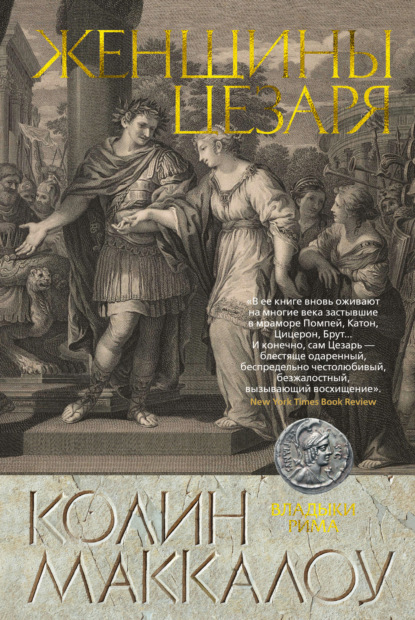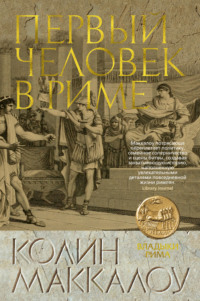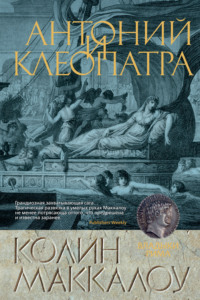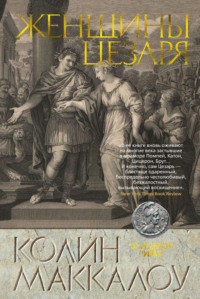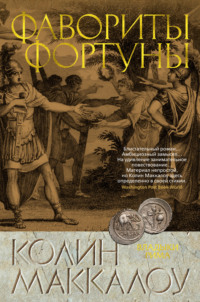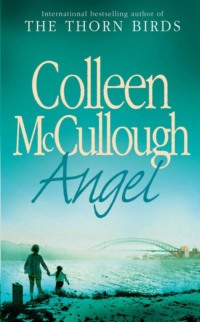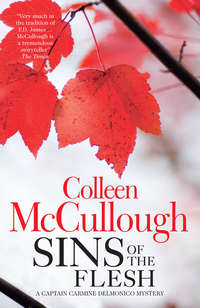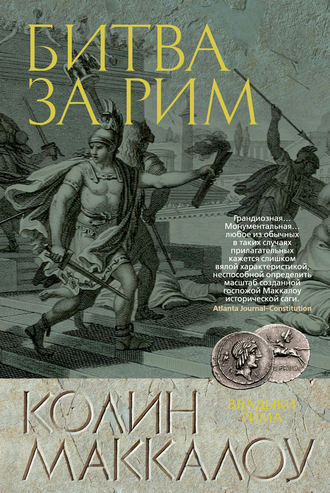
Полная версия
Битва за Рим
– Выпей из моего кубка, муж мой, – мягко, но настойчиво произнесла она.
Митридат без всяких колебаний сделал большой глоток, так что содержимое кубка сразу уменьшилось наполовину; затем поставил кубок на стол у ложа, которое делил с Лаодикой. Однако последний глоток вина он задержал во рту и теперь пытался получше распробовать, не спуская с сестры своих изумрудно-зеленых, с карими крапинками глаз. Потом он нахмурился, но не грозно: то было скорее задумчивое выражение, быстро сменившееся широкой улыбкой.
– Яд! – весело произнес он.
Царица сделалась белой как полотно. Придворные остолбенели: слово было произнесено во весь голос и пронеслось над притихшими гостями, как удар бича.
Царь покосился влево.
– Гордий! – позвал он.
– Что угодно моему повелителю? – спросил Гордий, проворно покидая свое ложе.
– Подойди и помоги мне.
Лаодика была на четыре года старше брата, но очень походила на него внешне. В этом не было ничего удивительного, так как в их династии братья часто женились на родных сестрах и сходство передавалось из поколения в поколение. Царица была женщина крупная, но хорошо сложенная. Она очень заботилась о своей внешности: волосы ее были уложены по греческой моде, зеленовато-карие глаза подведены сурьмой, щеки нарумянены, губы накрашены, а ноги и руки были темно-коричневыми от хны. Ее лоб охватывала широкая белая лента диадемы, концы которой струились по плечам. Лаодика выглядела как настоящая царица и намеревалась ею стать.
Но вот она прочла на лице брата свою судьбу и изогнулась, чтобы вскочить с ложа. Однако сделала это недостаточно стремительно: он успел схватить ее за руку и потянул назад; мгновение – и вот уже она полусидит-полулежит у брата на руках. Гордий был тут как тут: он опустился на одно колено по другую сторону, и лицо его исказила гримаса злорадного торжества. Он знал, какую награду попросит у царя: чтобы его дочь Низа, младшая царская жена, была провозглашена царицей, а ее сын Фарнак – наследником престола вместо сына Лаодики Махара.
Лаодика беспомощно взирала на четверых придворных, которые подвели ее возлюбленного Фарнака к царю, бесстрастно взиравшему на него. Потом царь вспомнил о ней.
– Я не умру, Лаодика, – промолвил он. – Представляешь, эта гадость не вызвала у меня даже тошноты. – Он улыбнулся, откровенно забавляясь. – Зато для того, чтобы умертвить тебя, яду еще вполне достаточно.
Схватив Лаодику за нос пальцами левой руки, царь запрокинул ей голову, и она, задохнувшись, судорожно разинула рот. Царь понемногу перелил содержимое прекрасного скифского кубка ей в горло, заставляя Гордия зажимать царице рот после каждой порции и ласково поглаживая ей шею, чтобы облегчить глотание. Лаодика не сопротивлялась, полагая борьбу за жизнь ниже своего достоинства: представители рода Митридатов не боятся смерти, особенно в результате попытки завладеть престолом.
Опорожнив кубок, Митридат уложил сестру на ложе, чтобы возлюбленный мог наблюдать за ее страданиями.
– Не вздумай вызвать у себя рвоту, Лаодика, – любезно предупредил ее царь. – Иначе я заставлю тебя выпить все это вторично.
Зал замер в ошеломленном ожидании. Сколько времени все продолжалось, никто потом не смог бы сказать, кроме самого царя, однако никому и в голову не пришло задать ему подобный вопрос.
Окинув взглядом своих приближенных, царь обратился к ним с наставительной речью, напоминая в этот момент философа среди учеников. Для всех присутствующих познания царя в области ядов оказались неожиданностью: молва об этих его способностях должна была стремительно облететь все Понтийское царство и проникнуть в сопредельные страны; а благодаря подробностям, которыми расцветит этот рассказ Гордий, слова «Митридат» и «яд» останутся связанными навеки и войдут в легенду.
– Царица, – произнес царь, – не могла выбрать ничего лучше, чем дорикний, именуемый египтянами сонной одурью. Полководец Александра Великого Птолемей, которому в дальнейшем было суждено стать царем египетским, привез это растение из Индии, где оно, по рассказам, достигает высоты настоящего дерева, тогда как в Египте не превосходит размером куст; листья его походят на листья полыни. Оно, а также аконит – лучшие яды. Глядя на умирающую царицу, вы увидите, что она до самого конца будет оставаться в сознании. На личном опыте я убедился, что этот яд необыкновенно обостряет все чувства. Брат мой, Фарнак, могу тебя уверить, что каждый удар твоего сердца, малейший трепет ресниц, каждый твой вздох, вызванный состраданием, она будет воспринимать куда острее, чем прежде. Как жаль, что уже нет времени на любовные ласки, не правда ли? – Опустив глаза на сестру, он удовлетворенно кивнул. – Смотрите, начинается!
Лаодика не сводила лихорадочного взора с Фарнака, который стоял в окружении стражников, уперев глаза в пол. Никому из присутствующих не суждено было забыть этот ее взгляд, хотя многие и пытались: здесь были и страх, и ужас, и восторг, и печаль – богатая, постоянно меняющаяся гамма чувств. Она ничего не говорила, ибо просто не могла произнести ни слова; ее губы медленно растянулись, обнажив крупные желтые зубы, шея и спина изогнулись колесом; тело начали сотрясать судороги, становившиеся все более частыми и сильными, пока она не забилась о ложе.
– У нее припадок! – сипло произнес Гордий.
– Именно, – равнодушно отозвался Митридат. – Потом наступит смерть, вот увидишь.
Он наблюдал за сестрой с подлинно врачебным интересом, поскольку неоднократно подвергался сходным приступам той же силы, однако ни разу не имел удовольствия любоваться этим зрелищем в своем большом серебряном зеркале.
– Я питаю надежду, – сообщил он придворным, наблюдающим вместе с ним за конвульсиями Лаодики, – создать универсальное противоядие, магический эликсир, способный излечить от отравления любым ядом, будь он растительного, животного или минерального происхождения. Для этого я ежедневно выпиваю состав, включающий не менее сотни различных ядов, иначе моя невосприимчивость непозволительно ослабеет. После этого я выпиваю состав из сотни противоядий. – Обращаясь к Гордию, он добавил: – В противном случае у меня случается легкое недомогание.
– Это вполне естественно, властелин, – прокаркал Гордий, которого била такая сильная дрожь, что он опасался, как бы царь не заметил этого.
– Осталось недолго, – бросил Митридат.
Он не ошибся. Судороги Лаодики становились все страшнее, ее едва не завязывало узлом. В глазах же по-прежнему горело сознание; когда они наконец устало закрылись, все поняли, что наступила смерть. Она так и не взглянула на брата – потому, возможно, что припадок начался в тот момент, когда она смотрела на Фарнака, а потом ей уже не повиновались даже глаза.
– Замечательно! – воскликнул воодушевленный царь и указал подбородком на Фарнака. – А теперь – его черед!
Никто не осмелился спросить, каким способом надлежит умертвить второго заговорщика, так что смерть Фарнака оказалась куда более прозаической, нежели смерть его возлюбленной Лаодики: конец его страданиям положил меч. Все те, кто наблюдал за последними минутами Лаодики, усвоили урок; на жизнь царя Митридата VI после этого не покушались долго, очень долго.

Путешествие из Пессинунта в Никомедию позволило Марию убедиться, что Вифиния весьма богата. Как и всю Малую Азию, страну эту покрывали горы, однако вифинские горы, за исключением Мизийского Олимпа в Прусе, были ниже, округлее и приятнее глазу, чем Таврские. Здесь протекали многочисленные реки, на полях вызревали хлеба, которых хватало для прокорма населения и армии, а также уплаты дани Риму. Бобовые давали богатый урожай, овцы благоденствовали, овощи и фрукты не переводились. Народ, как заметил Марий, выглядел сытым, довольным и здоровым; все деревни, через которые пролегал путь Мария с семейством, были населенными и зажиточными.
Однако совсем иную картину нарисовал путешественнику царь Никомед II, когда Гай Марий прибыл в его столицу Никомедию и разместился во дворце на правах почетного гостя. Сам дворец оказался небольшим, но Юлия поспешила уведомить Мария о том, что собранные здесь произведения искусства отличаются высочайшим качеством, дворец выстроен из самых лучших материалов и представляет собой архитектурный шедевр.
– Царь Никомед далеко не беден, – заключила она.
– Увы, – не соглашался царь Никомед, – я очень беден, Гай Марий. Но я властвую в бедной стране, так что иного и ожидать нельзя. К тому же Рим не облегчает мне жизнь.
Они сидели на балконе с видом на город; морская гладь была в тот день настолько безмятежна, что в ней, как в зеркале, отражались горы. Очарованному Марию казалось, что Никомедия повисла в воздухе, а плывущие в небе редкие облачка – это вереница осликов, ступающих по лазури залива.
– Что ты хочешь этим сказать, царь? – спросил Марий.
– Возьми для примера бесчестную историю с Луцием Лицинием Лукуллом, случившуюся пять лет назад, – начал Никомед. – Ранней весной он потребовал, чтобы я выставил два легиона для войны с рабами в Сицилии. – В голосе царя звучало раздражение. – Я объяснял, что у меня нет воинов, поскольку римские сборщики податей обращают моих подданных в рабство. «Освободи моих подданных, как того требует решение сената, дарующее свободу всем рабам из союзных Риму государств! – воззвал я к нему. – Тогда у меня опять появится армия, а моя страна снова узнает, что такое процветание». Знаешь, каков был его ответ? Мол, сенат имел в виду рабов из италийских союзнических городов!
– Он был прав, – заверил царя Марий, вытягивая ноги. – Если бы декрет подразумевал рабов из стран, заключивших с римским народом договор о дружбе и союзе, ты бы получил от сената официальное уведомление на сей счет. – Он устремил на царя Никомеда проницательный взгляд из-под кустистых бровей. – Насколько я помню, в итоге ты нашел для Луция Лициния Лукулла необходимых ему солдат?
– Не в том количестве, как ему хотелось, но все же нашел. Вернее, он сам нашел для себя людей, – ответил Никомед. – Получив от меня отрицательный ответ, он покинул Никомедию, объехал окрестности и через несколько дней заявил мне, что не наблюдает нехватки мужчин. Я пытался убедить его, что попавшиеся ему на глаза мужчины – сплошь земледельцы, а не солдаты, однако он отмахнулся и сказал, что из земледельцев получаются отменные солдаты, поэтому они вполне сгодятся. Как же мне не горевать, если он забрал семь тысяч душ – тех самых людей, на которых держалась платежеспособность моего царства!
– Год спустя ты получил их назад, – возразил Марий, – к тому же с кошельками, полными денег.
– А как же поля, пустовавшие целый год? – упирался царь. – Год неурожая, при необходимости платить подати Риму, отбрасывает нас на десяток лет назад.
– Откуда же взялись в Вифинии сборщики налогов, – молвил Марий, чувствовавший, что царь чего-то недоговаривает. – Ведь Вифиния не является частью римской провинции Азия.
Никомед начал вилять:
– Беда в том, Гай Марий, что некоторые мои подданные наделали долгов у римских публиканов из провинции Азия. Сейчас трудные времена.
– Отчего же они такие трудные, царь? – не отставал от него Марий. – Мне, напротив, казалось, что ваше благосостояние растет, особенно после того, как на Сицилии разгорелась война с рабами. Вы выращиваете много зерна, а могли бы выращивать еще больше. Рим уже давно покупает зерно по завышенным ценам, особенно в этих краях. На самом деле ни вы, ни наша провинция Азия не в состоянии дать даже половины потребного нам количества. По моим сведениям, основная часть зерна поступает из владений понтийского царя Митридата.
Наконец-то Марий нащупал больное место! Он содрал корку с нарыва, и гной хлынул потоком.
– Митридат! – Царь гневно плюнул и откинулся на троне. – Да, Гай Марий, вот кто – гадина, заползшая в мой сад! Вот причина царящего в Вифинии упадка. Я уплатил сотню талантов золотом – а это было ох как нелегко! – чтобы обеспечить себе в Риме поддержку, когда этот змей запросил статус друга и союзника римского народа! А сколько денег тратится из года в год на то, чтобы обороняться от его подлых посягательств? Во много раз больше! Я вынужден постоянно держать наготове армию, чтобы отражать атаки Митридата. Разве найдется страна, которая могла бы позволить себе такое расточительство?! А что он натворил в Галатии всего три года назад! Резня на пиру! Четыреста вождей сложили головы, съехавшись в Анкиру. Завладев Фригией, Галатией, прибрежной Пафлагонией, он взял меня в кольцо. Помяни мое слово, Гай Марий: если Митридата не остановить теперь, то вскоре Рим пожалеет о своем бездействии!
– Тут я с тобой согласен, – молвил Марий. – Однако Анатолия так далеко, и я очень сомневаюсь, что кто-либо в Риме в достаточной степени осведомлен о том, что здесь происходит. За исключением разве что принцепса сената Марка Эмилия Скавра, но он уже стар. Я собираюсь встретиться с царем Митридатом и предостеречь его. Возможно, когда я вернусь в Рим, мне удастся убедить сенат, что к Понту следует отнестись серьезнее.
– Нас ждет трапеза, – сказал Никомед, вставая. – Разговор продолжим потом. О, как приятно говорить с понимающим человеком!
Для Юлии пребывание при дворе восточного правителя было полно открытий. «Мы, римские женщины, непременно должны больше путешествовать! – размышляла она. – Теперь я понимаю, как узок наш кругозор, как глубоко наше невежество во всем, что касается остального мира! Это наверняка отражается на том, как мы воспитываем детей, особенно сыновей».
Открытием оказалась и первая в ее жизни встреча с монархом, Никомедом II. Она-то воображала, что все цари должны походить на римского патриция в звании консула – надменного, высокообразованного, исполненного достоинства. Этакий заморский Катул Цезарь или принцепс сената Скавр; ибо малорослый и плешивый Скавр, вне всяких сомнений, вел себя как некоронованный властелин.
Но Никомед II обманул ожидания Юлии. В молодости он был очень высок и, судя во всему, крепко сложен, но в свои восемьдесят с лишним превратился в сухого, согбенного и хромого старика, с дряблой шеей и обвисшими щеками. Он потерял все до единого зубы и почти все волосы. Впрочем, то были признаки физического дряхления, и римские консулы, дожившие до преклонных лет, выглядели точно так же. Взять, к примеру, Сцеволу Авгура. Разница заключалась в манере держать себя и в характере. Прежде всего в глаза бросалась женственная изнеженность царя. Он носил длинные одежды из легкой тончайшей шерсти изысканных цветов, к трапезе выходил в позолоченном завитом парике, в его ушах сверкали огромные серьги; лицо было размалевано, как у дешевой шлюхи, а говорил он высоким фальцетом. Ничего величавого в его облике не было и в помине, но при этом царь Никомед правил Вифинией уже более полувека, и правил железной рукой. Никому из сыновей не удалось спихнуть его с трона. Юлии трудно было поверить в то, что этот женоподобный человек с пронзительным голосом еще в ранней юности сверг своего отца и сумел внушить своим подданным любовь и добиться повиновения.
Оба его сына находились при дворе, в то время как жен при нем не осталось: царица скончалась много раньше (она подарила ему старшего сына, названного Никомедом), младшей жены тоже не было в живых (она была матерью младшего царевича, Сократа). И Никомед III, и Сократ были уже далеко не молоды: первому исполнилось шестьдесят два года, второму – сорок четыре. Оба были женаты, однако выглядели столь же изнеженными и женоподобными, как и отец. Жена Сократа походила на мышку: маленькая, робкая и юркая; зато жена Никомеда III оказалась большой, здоровой и веселой, любившей и пошутить, и посмеяться. Она родила Никомеду III дочку по имени Низа, которая засиделась в девицах и замуж, похоже, не собиралась. Жена Сократа была бесплодна – как, видимо, и ее супруг.
– Этого следовало ожидать, – поделился с Юлией молодой раб, прибиравший в гостиной, предоставленной в ее единоличное пользование. – Сократа, скорее всего, женщины не интересуют. А вот Низа, наоборот, очень любит молоденьких кобылок, и неудивительно – при ее-то лошадиной физиономии.
– Наглец! – молвила Юлия ледяным тоном и с отвращением выгнала молодого слугу за дверь.
Во дворце было полным-полно привлекательных молодых людей, главным образом рабов, хотя на службе у царя и его сыновей состояли и свободные люди. Здесь не было недостатка и в мальчиках-прислужниках, еще более миловидных, чем зрелые юноши. Юлия старалась гнать от себя мысли о том, в чем заключаются их основные обязанности, особенно думая о Марии-младшем, тоже миловидном, дружелюбном, общительном и как раз входящем в подростковый возраст.
– Гай Марий, приглядывай за сыном! – осторожно попросила она мужа.
– Чтобы он не стал таким же, как эти жеманные создания, отирающиеся вокруг? – Марий усмехнулся. – Не бойся за него, mea vita. Он начеку и всегда сможет узнать извращенца по филейной части.
– Спасибо за утешение – и за сравнение, – с улыбкой молвила Юлия. – С годами ты не стал изъясняться деликатнее, Гай Марий.
– Даже наоборот, – ответил он не моргнув глазом.
– Именно это я и имела в виду.
– Вот как? Ясно.
– Тебе еще не надоело здесь? – неожиданно спросила Юлия.
– Мы пробыли тут всего неделю, – удивленно ответил Гай Марий. – А что, эта клоунада действует тебе на нервы?
– Боюсь, что да. Мне всегда хотелось посмотреть, как живут цари, но здесь, в Вифинии, я с грустью вспоминаю о Риме. Дело не в любовных предпочтениях, а в сплетнях, в атмосфере, взглядах, которыми тут принято обмениваться. Слуги несносны, а с женщинами из царской семьи у меня нет и не может быть ничего общего. Орадалта так громко кричит, что мне хочется заткнуть уши, а Муза… Очень подходящее имя, только по-латыни, в значении «мышь», а не «муза» по-гречески! Словом, Гай Марий, давай уедем, как только ты сочтешь возможным, – я буду тебе весьма признательна! – В этот момент в Юлии заговорила строгая римская матрона.
– Прямо сейчас и уедем, – обнадежил ее Гай Марий и извлек из складок тоги свиток. – Это письмо следовало за мной от самого Галикарнаса и наконец-то настигло. От Публия Рутилия Руфа – догадайся, где он сейчас?
– В провинции Азия?
– Точнее, в Пергаме. В этом году там наместником Квинт Муций Сцевола, а Публий Рутилий при нем легатом. – Марий весело помахал свитком. – Полагаю, что и наместник, и его легат будут искренне рады, если мы нанесем им визит. Вернее, мы должны были осчастливить их несколько месяцев назад: письмо-то отправлено еще весной! Теперь же они и подавно истосковались по доброй компании!
– Я знаю только, что Квинт Муций Сцевола – адвокат, – сказала Юлия, – а больше совсем ничего.
– Я тоже с ним толком не знаком, и мне известно лишь, что он неразлучен со своим двоюродным братом Крассом Оратором. Впрочем, стоит ли удивляться, что мы почти его не знаем: ведь ему всего-то сорок лет.
Старый Никомед, полагавший, что гости пробудут у него не меньше месяца, отказывался отпускать их. Но Марий твердо стоял на своем, и глупый старик не в силах был заставить его изменить решение. Не вняв просьбам царя, римские путешественники миновали узкий пролив Геллеспонт и вышли в Эгейское море, где паруса их судна наполнил свежий ветер.
По реке Каик корабль прошел некоторое расстояние вглубь страны и достиг Пергама; с воды открывался замечательный вид на чудесный город и вознесшийся над ним акрополь, окруженный высокими горами.
И Квинт Муций Сцевола, и Публий Рутилий Руф оказались на месте, но судьбе было угодно, чтобы Марий и Юлия так и не свели близкого знакомства со Сцеволой, поскольку он торопился в Рим.
– О, как прекрасно провели бы мы вместе время летом, Гай Марий! – вздохнул Сцевола. – Теперь же я уплываю: мне надо успеть добраться до Рима, поскольку зимой совершать морские путешествия слишком опасно.
Марий и Рутилий Руф отправились попрощаться со Сцеволой, предоставив Юлии возможность устроиться поудобнее во дворце, который гораздо больше пришелся ей по душе, нежели покои Никомеда II, хотя и здесь ей недоставало женского общества.
Марию даже в голову не пришло, что Юлия скучает в отсутствие подруг. Предоставив супругу самой себе, он приготовился слушать новости в изложении своего старейшего и преданнейшего друга.
– Первым делом – Рим, – попросил он.
– Начну с поистине замечательной новости, – молвил Публий Рутилий Руф, жмурясь от удовольствия. Как здорово было встретиться с Гаем Марием вдали от дома! – Авгур Гай Сервилий умер в ссылке в конце прошлого года, поэтому нужно было выбрать человека на освободившееся место в коллегии авгуров. Разумеется, выбрали тебя, Гай Марий!
Марий разинул рот:
– Меня?..
– Именно. Тебя.
– Мне и в голову не приходило… Почему я?
– Потому что тебя по-прежнему поддерживают многие римляне, как бы ни старались Катул Цезарь и иже с ним. Полагаю, избиратели сочли, что ты заслуживаешь такой чести. Твоя кандидатура была выдвинута всаднической центурией, и ты набрал большинство, благо что не существует закона, запрещающего выбирать человека в его отсутствие. Не стану утверждать, что твое избрание было благосклонно встречено Свиненком и его компанией, зато Рим – в восторге!
Марий вздохнул, не в силах скрыть удовлетворения:
– Что ж, вот новость так новость! Я – авгур! Значит, и мой сын будет жрецом или авгуром, а дальше и его сыновья. Выходит, я все же прорвался, Публий Рутилий! Мне удалось проникнуть в святая святых Рима, – мне, италийскому деревенщине, по-гречески не разумеющему!
– Вряд ли кто-либо отзывается теперь о тебе в таких выражениях. Смерть Свина стала в некотором смысле вехой. Если бы он был жив, ты вряд ли выиграл бы какие-либо выборы, – рассудительно проговорил Публий Рутилий. – И ведь не в том дело, что его auctorias был выше, чем у кого-либо еще, а сторонники – многочисленнее. Просто его dignitas разбух донельзя после всех этих схваток на Форуме, когда он был цензором. Можно любить или ненавидеть его, но нельзя не признать его беспримерную храбрость. Хотя, думаю, главная его заслуга в другом: он представлял собой ядро, вокруг которого смогли сплотиться другие. Вернувшись с Родоса, он приложил максимум усилий для твоего низвержения. А что еще ему оставалось делать? Вся его власть и влияние были направлены на одно – на твое уничтожение. Смерть его стала, знаешь ли, огромным потрясением. Он так здорово выглядел, когда вернулся! Я-то не сомневался, что он будет радовать нас еще многие годы. И вот тебе!
– Почему у него в гостях оказался Луций Корнелий? – полюбопытствовал Марий.
– Этого никто не знает. Они не были близкими друзьями – в этом мнения сходятся. Луций Корнелий объяснил лишь, что оказался в доме случайно и вовсе не намеревался ужинать у Свина. Очень странно! Самое удивительное, что Свиненок не нашел в присутствии Луция Корнелия ничего необычного. Я делаю из этого заключение, что Луций Корнелий собирался присоединиться к фракции Свина. – Рутилий Руф нахмурился. – У них с Аврелией вышла серьезная размолвка.
– У Луция Корнелия?
– Да.
– От кого ты услышал об этом?
– От самой Аврелии.
– Она не объяснила, по какой причине?
– Нет. Просто сказала, что больше не желает видеть Луция Корнелия у себя в доме. Как бы то ни было, вскоре после смерти Свина Сулла отправился в Ближнюю Испанию. Аврелия сообщила мне эту новость только после его отъезда. Наверное, боялась, как бы я не напустился на него, будь он еще в Риме. В общем-то, все это сплошная загадка, Гай Марий.
Марий, не слишком интересовавшийся личными раздорами, состроил гримасу и пожал плечами:
– Пусть странно, но это их дело. Какие еще новости?
– Наши консулы провели новый закон, запрещающий человеческие жертвоприношения, – со смехом сообщил Рутилий Руф.
– Что ты сказал?!
– Закон, запрещающий человеческие жертвоприношения.
– Чудеса! Разве в Риме приносят в жертву людей! – Марий с отвращением отмахнулся. – Ерунда какая-то!
– Кажется, пока Ганнибал маршировал взад-вперед по Италии, в Риме принесли в жертву двоих греков и двоих галлов. Впрочем, сомневаюсь, чтобы это имело отношение к новому lex Cornelia Licinia.
– Чем же тогда вызвано его принятие?
– Как ты знаешь, порой мы, римляне, находим весьма неожиданный способ, чтобы повлиять на общественную жизнь. По-моему, новый закон относится именно к этой категории. Наверное, его принятие должно было оповестить Римский форум о том, что убийства, насилие, лишение свободы магистратов отменяются, как и вся прочая противозаконная деятельность, – проговорил Рутилий Руф.
– Гней Помпей Лентул и Публий Лициний Красс представили какие-либо разъяснения? – спросил Марий.
– Нет, они просто обнародовали свой закон, и он был одобрен.
Марий махнул рукой:
– Младший брат нашего великого понтифика, исполняющего в этом году обязанности претора, был назначен правителем Сицилии. Ходили слухи о новом восстании рабов – как тебе это?