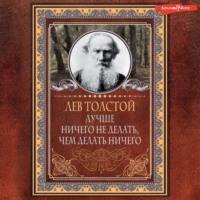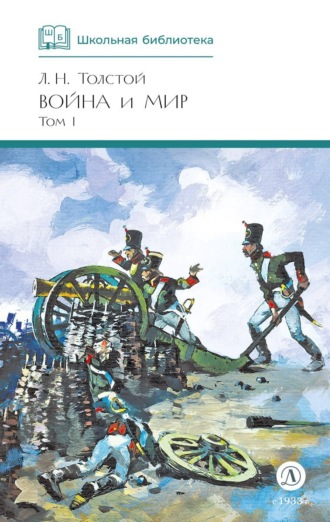
Полная версия
Война и мир. Том 1
Картины семейной жизни составили самую сильную, вечно неувядающую сторону «Войны и мира». Семья Ростовых и семья Болконских, новые семейства, которые возникали в итоге долгого пути, пройденного героями, – Пьера Безухова и Наташи, Николая Ростова и княжны Марьи, – запечатлели правду русского жизненного уклада так полно, как только это было возможно в пределах толстовской философии.
Семья представала тут и связующим звеном в судьбе поколений, и той средой, где человек получает первые «опыты любви», открывает элементарные нравственные истины, учится примирять собственную волю с желаниями других людей; откуда он выходит в несравнимо более обширную общую жизнь и куда возвращается, чтобы найти успокоение и гармонию. В семье открывалась героям не только текущая, сиюминутная, действительность, но оживала их родовая память. Потрясающие сцены охоты Ростовых выглядели «отголоском» древнего охотничьего обряда, который не умирал со времен далеких предков.
Семейные описания всегда имели в «Войне и мире» глубоко русский характер. Какая бы из подлинно живых семей ни попадала в поле зрения Толстого, это была семья, где ценности нравственные значили много больше, чем земной временный успех, семья открытая, сотнями нитей соединенная с миром, готовая «вобрать» в число домашних, «своих», не одну кровную родню, а все «население» дворянского дома, ответить любовью каждому, кто с чистым сердцем вошел с ней в соприкосновение. Никакого семейного эгоизма, превращения дома в неприступную крепость на европейский манер, никакого безразличия к судьбам тех, кто находится за его стенами.
Речь, конечно, в первую очередь о семье Ростовых. Но и семья Болконских, совсем другая, временами кажется – «тяжелая» и замкнутая семья, тоже включала в себя, только по-своему, «по-болконски», самых разных людей: от архитектора Михаила Иваныча до учителя маленького Николушки, француза Десаля, и даже (куда ее денешь?) «расторопной» m-lle Bourienne. Русская широта и открытость Болконских, разумеется, была не для всех без исключения. Но, скажем, Пьер Безухов за время пребывания в доме узнал ее вполне. «Пьер теперь только, в свой приезд в Лысые Горы, – рассказывал Толстой, – оценил всю силу и прелесть своей дружбы с князем Андреем. Эта прелесть выразилась не столько в его отношениях с ним самим, сколько в отношениях со всеми родными и домашними. Пьер с старым, суровым князем и с кроткой и робкой княжной Марьей, несмотря на то что он их почти не знал, чувствовал себя сразу старым другом. Они все уже любили его. Не только княжна Марья ‹…› самым лучистым взглядом смотрела на него; но маленький, годовой князь Николай, как звал дед, улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки. Михаил Иваныч, m-lle Bourienne с радостными улыбками смотрели на него, когда он разговаривал с старым князем».
И все же эту великую правду человеческих отношений приходится отличать от той философской «мысли семейной», что имел в виду сам Толстой, приступая к созданию своей книги. Семейное счастье было для него всесторонним явлением природной, «естественной» любви. В описании приема, оказанного Болконскими едва знакомому с ними Пьеру, важнейшими, «ключевыми» не случайно оказались простые слова: «Они все уже любили его».
В семье появляется земная жизнь, в семье она протекает, и в семье, на руках родных и близких (так должно быть!), она завершается. В семье получает она родовые неповторимые признаки, всегда блестяще «схваченные» в «Войне и мире». Это, полагал Толстой, и есть мораль во плоти, которая выражает себя слезами и смехом, тысячами других примет. Духовная традиция, усвоенная с молоком матери, переданная воспитанием, укрепленная гражданскими началами, была для Толстого малосущественна. Семья представлялась ему своеобразным «перекрестком» живых эмоций. В ней, полагал он, вечно пребывает не омраченная рассудком отзывчивость, которая без любых «общих» истин сама скажет человеку, что в мире хорошо, а что плохо, сольет родных и даже посторонних в одно любящее целое. Наиболее полно такие понятия создателя великой книги отразил важнейший в «Войне и мире» образ Наташи Ростовой.
При всей его конкретности, развитии по мере продвижения к эпилогу, образ этот прежде всего идеальный. По отношению к Наташе как своеобразному центру произведения раскрывалась потаенная суть всех основных действующих лиц. В соприкосновении с ее судьбой Пьер Безухов, Андрей Болконский находили независимую от своих «умствований» точку опоры. До определенной степени Наташа в «Войне и мире» служила мерой подлинности всего и вся.
Набрасывая предварительные характеристики будущих героев книги, Толстой записал: «Наталья. 15 лет. Щедра безумно. Верит в себя. Капризна, и все удается, и всех тормошит, и всеми любима. Честолюбива. Музыкой обладает, понимает и до безумия чувствует. Вдруг грустна, вдруг безумно радостна. Куклы».
Уже тогда в характере Наташи без труда угадывалось то самое качество, что, согласно философии Толстого, в наибольшей мере отвечало требованию истинного бытия, – полная непринужденность. Начиная с первого появления маленькой героини перед гостями дома Ростовых она вся была движение, импульс, неумолчное биение жизни. Эта вечная неуспокоенность только проявлялась по-разному. Толстой видел тут не просто ребяческую подвижность Наташи-подростка, восторженность и готовность влюбляться в целый свет Наташи-девушки, страх и нетерпение Наташи-невесты, тревожные хлопоты матери и жены, а бесконечную пластику чувства, явленного в самом чистом, неомраченном своем виде. Исключительный дар непосредственного чувства определял, согласно внутренним законам произведения, и нравственное совершенство Наташи. Ее переживания, больше того, любой внешний отголосок этих переживаний выглядели в «Войне и мире» как сама естественная мораль, избавленная от всякой искусственности и фальши в толстовском их понимании.
Один из первых критиков, писавших о книге Толстого, – П. В. Анненков однажды назвал Наташу «поэтической графиней-ребенком, ‹…› не получившей ни малейшего нравственного образования в дому, подверженной всем искушениям собственного своего организма и беспокойной мысли»[1]. Известный литератор, одно время близкий Толстому по духу, оценивал героиню «Войны и мира» с точки зрения устоявшихся нравственных традиций.
Толстой, однако, веровал и мыслил нетрадиционно. Чувство не признает образования. Оно безупречно ведет к добру и единению лишь тогда, когда на нем нет никакой узды. Так, Наташа не могла понять, зачем нужно ее жениху Болконскому, хотя и по требованию сумасбродного отца, откладывать свадьбу на целый год. Независимо от любых разумных доводов такая отсрочка представлялась оскорбительной для «святыни чувства». Ничем не сдержанная эмоциональная жизнь в доме Ростовых заменяла собой (такой вывод напрашивается неизбежно) любые нравственно-образовательные начала. И это свободное чувство, создавая дорогую Толстому атмосферу «интуитивного добра», формировало идеальный характер Наташи.
В «Капитанской дочке» герой Пушкина Петр Гринев говорил о своей избраннице Маше Мироновой: «Я нашел в ней благоразумную и чувствительную девушку». В данном случае имелось в виду то известное всему православному миру благодатное единство, когда просвещенный Свыше разум смиряет и обогащает чувство, а просвещенное чувство согревает его сердечной теплотой. Для Толстого вопрос так не стоял. В 1867 году, развивая мысль, высказанную в письме к нему замечательным лириком и едва ли не самым близким его приятелем этих лет А. А. Фетом, он написал: «От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете. (Еще за это письмо вам спасибо большое. Ум ума и ум сердца – это мне многое объяснило)».
Подобное «раздвоение» понятия «ум» означало в рамках толстовской философии противоречие рационального и эмоционального, «чувствительного» сознания, по сути, противоречие разума и чувства.
Это мнимое противоречие, говорить и думать о котором начиная с XVIII века стало общепринятым, вполне отражало постепенное «обмирщение», «заземление» мысли у людей новой поры. Святоотеческая традиция с давних времен называла духом именно человеческий разум. Соединенный со своим истоком – Духом Божиим, он возвышал также и чувствительную сторону в человеке. С наступлением эпохи Просвещения приверженцы новых идеалов утратили в себе это связующее начало. Понятия «разума» и «чувства» получили для них совершенно иное измерение, переместились в сугубо горизонтальную, земную, плоскость и потому неизбежно стали «разобщенными», враждебными одно другому.
Разум у Толстого представлял собой нечто вполне земное. Точно так же сердце означало вечно взволнованную плоть и кровь, но никак не духовный орган – средоточие мистических начал бытия.
Наташа Ростова в высшей степени была наделена умом такого сердца. Понятие о благоразумии (благом разуме) исключалось самим строем «Войны и мира», попадало в разряд искусственных, «головных», цивилизованных. Вместо него оставалась независимая чувствительность в новом для нее «царственном» значении. Это она, как самый действенный ключ, по-житейски открывала Наташе, кто есть кто, заставляла, как это случилось однажды в романе, искать «свободные» от общих понятий, различимые лишь по форме и цвету, «абстрактные» определения знакомых людей: «узкий, серый, светлый» Борис Друбецкой, «темно-синий с красным, четвероугольный» Пьер Безухов…
Представление Толстого о прекрасном всегда было неотделимо от его нравственных убеждений. Он говорил: «красота», «добро», «правда», полагая тут некое нерасторжимое единство, возможность замены одного слова другим. Эти понятия – иногда к ним или взамен одного из них добавлялось еще «простота» – образовали своего рода устойчивую формулу толстовской веры времен создания «Войны и мира». Нравственно совершенный, согласно понятиям писателя, образ Наташи заключал в себе также его идеал прекрасного. Неправильные черты только оттеняли в ней привлекательность естественной жизни, которую сам Толстой находил единственным источником не только нравственности, но и гармонии. «Смущенная» плоть Наташи в нескромном, по моде того времени, выходном платье и «мраморные» плечи Элен Безуховой составляли в романе разительный контраст между живым и мертвым, подлинным и ложным. Красота главной героини «Войны и мира» именно и заключалась в непреднамеренном единстве красоты внешней и внутренней.
В любом ее качестве это была, конечно, земная, «чувствительная» красота. Слово «прелесть», которым обыкновенно стремился выразить ее художник, в его исконной глубине не допускало иного смысла. Древнерусская литература, церковные писатели одного времени с Толстым употребляли его исключительно как негативное. Оно означало высшую степень обольщения, обман, соблазн, восходящие, как все греховное на свете, к падению первых людей – Адама и Евы. Один из трудов современника Толстого – святителя Игнатия Брянчанинова так и назывался: «О прелести». Светские литераторы XIX века, как правило, не обращали внимания на вековое содержание этого слова. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, многие другие уже использовали его для обозначения женской привлекательности и красоты в их наивысшем проявлении. Нередко оно означало у писателей новой поры также восторженное духовное состояние.
Героиня Толстого, восхищаясь человеком, природой, событием не раз повторяла: «прелесть». Наиболее очевидный тому пример – Наташа весенней ночью в Отрадном и ее слова, случайно услышанные Андреем Болконским. «Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, – сказала она почти со слезами в голосе. – Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало». Но и сама Наташа – тоже прелесть. Эти слова говорились о ней в романе, его начальных томах, тоже постоянно. Получалось, что прелесть мира сходится в Наташе и от нее же исходит. Героиня романа с ее «даром чувства» знала самую прямую дорогу к разлитой в мире нравственной первооснове и одновременно, как никто другой на страницах «Войны и мира», несла ее в себе. Наташа не только дарила персонажам книги отраженный свет «земного божества», но и словно позволяла прямо ощутить его в себе самих, прикоснуться к туманной тайне мироздания.
В эпилоге своего произведения Толстой, впрочем, показал уже другую героиню: лишенную прелести, увлеченную семейными заботами. И все-таки он не мог не упомянуть, что Наташа-мать – это «сильная, красивая и плодовитая самка». Подлинно священной, как в начале книги, так и в ее заключительных главах, оставалась для него богато одаренная живая природа. Былые «прелестные» начала только теснее соединились теперь со своим истоком. Таким был закономерный (прекрасный, по убеждению писателя) итог развития образа.
Между тем образ этот отчетливо соотносился у Толстого с характером русского народа, каким понимал его художник. Во время знаменитой сцены у дядюшки не танец даже, а всего лишь первое движение, сделанное Наташей, безошибочно задело в душе каждого, кто видел его, именно русскую струну. «Разве мы немцы какие-нибудь?» – восклицала она в одном из наиболее трогательных эпизодов книги, призывая родных накануне оставления Москвы в 1812 году отдать «под раненых» уже готовые перевозить домашнее имущество подводы. «Мысль семейная» и «мысль народная» выступали в «Войне и мире» как мысли взаимопроникающие, восходили к одной философской первооснове. Образ Наташи по-своему связывал их вместе. Нравственные ценности русского народа, подобно идеальным чертам в образе героини, представлялись Толстому такими же естественными и земными, укорененными непосредственно в гармонии мира.
Уже первое среди военных описаний произведения – Шенграбенское сражение – по-своему утверждало в массовых сценах «Войны и мира» толстовское понимание подлинно нравственной жизни. Естественность и непринужденность в действиях тысяч людей на поле боя становились тут главным залогом почти невероятной победы русских солдат. Все совершилось как бы само собой, в силу свободного, никем не направляемого хода вещей. Русский командующий князь Багратион не отдавал никаких приказов, только «освящал» своим одобрением произвольные действия подчиненных. Артиллеристы на батарее капитана Тушина сами увидели, куда им стрелять, и, словно нечаянно, определили своими действиями исход сражения. Непосредственный импульс (вот так же позднее, в бою под Островно, Николай Ростов, повинуясь, как до этого на охоте, минутному порыву, «не думая, не соображая», опрокинет в нужный момент французских драгун) двигал и прочими участниками битвы. Она развернулась как естественное течение жизни и завершилась так, как только и могла закончиться у Толстого. «Все хорошо, что хорошо кончается», – думал он поначалу назвать свое произведение.
Центральным действующим лицом шенграбенского эпизода, на котором сходились все «лучи» толстовского описания, стал простой, скромный капитан Тушин. Образ этот соединил в себе так много национально значимых черт, собрал приметы стольких реальных лиц и даже литературных персонажей (капитан Миронов из «Капитанской дочки», Максим Максимыч из «Героя нашего времени»), что стал по праву восприниматься как образ русского воина всех времен. Но за этой могучей правдой всегда в «Войне и мире» скрывалась дорогая Толстому идея о природной скромности, природной отзывчивости и доброте русского человека, за которыми нет никаких более возвышенных причин. «Схватывая» в неистощимых подробностях богатые плоды национального духа, Толстой предполагал за ними все-таки совершенно особенный дух, особенные законы. Исключительное соответствие требованиям естественного бытия казалось ему самым существенным, определяющим в характере русского народа и войска.
* * *Отрицательных персонажей в общепринятом смысле слова на страницах «Войны и мира» не было. Принцип «нет в мире виноватых» последовательно соблюдался писателем в ходе его работы. Но противоречие «живой жизни» и цивилизации – главный, всеобщий конфликт произведения – все же ясно сказалось на «расстановке сил» в этой почти необъятной «новой реальности».
Действующие лица «Войны и мира» изначально оказались разделены на две ни в чем не сходящиеся группы, если не сказать на два лагеря, – «понимающих» и «не понимающих» толстовские красоту, добро и правду. И если первый из этих миров заключал в себе естественную жизнь с ее нравственным течением, то второй был искусственным, мертвым и соответственно лишенным каких бы то ни было моральных основ. По одну сторону тут находились Ростовы, Болконские, «непринужденные» солдаты, офицеры; по другую – Курагины, Берги, Друбецкие, придворные интриганы, штабные чины – «трутневое население армии». Граница, которая пролегла между теми и другими, выглядела почти непреодолимой. Исключение составлял, может быть, только Долохов – действительно «переходный» тип.
Безусловно, любой из таких «безжизненных» героев книги, будь то князь Василий Курагин, его дети – Элен, Ипполит и Анатоль, – Борис Друбецкой или Берг, отличались, как все действующие лица «Войны и мира», ярким своеобразием, а психология любого из них, часто в родовых, наследственных чертах, передавалась Толстым неподражаемо точно. И все-таки «живое» в человеке – скажем, недюжинная энергия Анатоля Курагина (кто из читателей не был по-своему увлечен картинами его молодецких кутежей?) – от начала до конца оказалось поставлено здесь на службу «цивилизованным» страстям: эгоизму, тщеславию, корысти, «осквернилось» воздействием этих страстей. Не одушевленное искренним чувством – единственным источником жизни у Толстого, – природное начало в этих героях словно утратило способность излучать свет.
На протяжении всей огромной книги «люди-автоматы» выглядели как перевернутое отражение, мертвая копия «живой жизни». Эта вечная «подделка» для того и нужна была каждому из них, чтобы удобнее следовать собственным прихотям. Понятия о семейственности, принятые в их среде, резко отличались от тех, которыми дышал непосредственный, отзывчивый дом Ростовых: тут семья становилась только средством достижения сиюминутного интереса. Вездесущий князь Василий устраивал своим детям выгодные партии, задумываясь исключительно о денежном их благополучии, почестях и возвышении. Были, правда, и такие «удачные» браки, когда «родственные души» (похожее тянется к похожему) находили друг друга, как Вера Ростова и Берг, Жюли Карагина и Борис Друбецкой. И тогда возникало нехитрое счастье совместных забот о бытовых удобствах, а возможно, и о передаче «практического опыта» будущим отпрыскам.
Поле, где разворачивали свои интриги всевозможные искатели выгод и жизненных удовольствий, в «Войне и мире» было обширным. Но писатель полагал, что существует и совершенно особая сфера жизни, специально созданная этими людьми в собственных интересах. Князь Василий Курагин, Анна Павловна Шерер, многие другие ловили свою выгоду именно в мутной воде придворных интриг. Между их породой и существом государственной власти Толстой обнаруживал глубочайшее родство.
Он, конечно, был еще очень далек в те годы от своих позднейших бунтарских настроений. Но под углом его философии государство уже и тогда должно было казаться ненужным, своекорыстным образованием, помехой для непосредственного течения жизни. Государственный Петербург занимался в «Войне и мире» сплошь «искусственной» деятельностью: «отвлеченными» реформами Сперанского, дипломатическими связями, планами военных кампаний… Взгляд Толстого не находил за этими делами никакой, способной вызывать слезы и смех, живой, «чувствительной» опоры. Ни к чему не ведущие «вопросы» и пустая «фраза» пропитали насквозь коридоры власти, какой она была показана в «Войне и мире».
Ничего иного государственная жизнь, по логике писателя, собой и не представляла. Оставаясь верным исторической правде, он показывал восторг Николая Ростова, потом его брата Пети в моменты появления перед своими подданными Александра I. Но делал это всегда с едва заметной снисходительной улыбкой: то был восторг юных неопытных душ. Он увлеченно следил глазами своих героев за переменами в лице государя, передавал его удивительный, так пленявший современников «голубиный» взгляд, выражение его лица, оттенки речи… Но это и был для него весь царь. Значение подлинного центра национальной жизни: духовного, нравственного и властного – в нем даже не угадывалось. И пожалуй, недалек от истины оказался крупнейший русский мыслитель XX века И. А. Ильин, когда сказал однажды о «Войне и мире»: «Здесь Толстой впервые восстает против великих мужей и против государства; здесь впервые заявляет о себе его будущий анархизм»[2].
Подлинная жизнь, подлинная нравственность не нуждались, по мысли Толстого, ни в каком цивилизованном воздействии. «Жизнь между тем, – скажет он о русском мире в канун войны 1812 года, – настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований».
Процветание России в начале XIX столетия, весь красочный, многосложный, драматичный «узор» национальной действительности выглядели у Толстого как нечто существующее само по себе, вечное и незыблемое. Представить, что не будь Православного государства – и этот мир пошатнется, уничтожатся многие из дорогих писателю вещей; что Российская Империя – это политое потом и кровью многих поколений драгоценное творение русского народа; что и сама его книга в итоге – тоже один из богатых плодов этого державного порядка, писатель не мог и не хотел. Его герои жили в такой стране, где «наука, музыка, поэзия, любовь, дружба» знать не хотели над собой никаких обязательных начал, не нуждались ни в каком охранении, порядке и форме. Каждая попытка принять законы «цивилизации» оборачивалась поэтому для естественной жизни неизбежным крушением. В первых двух томах «Войны и мира», не считая множества частных поражений, две подобные катастрофы имели значение поистине глобальное.
Измена Наташи Ростовой своему жениху Болконскому, ее намерение тайно бежать из дома с Анатолем Курагиным стало одной из них. Сама жизнь, сама непосредственная нравственность устремилась тут по ложному руслу, дала, возможно, непоправимый сбой в соприкосновении с началом безжизненным, безнравственным. Эта катастрофа выглядела только частным случаем по сравнению с более ранним на страницах «Войны и мира» поражением русской армии под Аустерлицем. Однако эти два события имели для Толстого равный внутренний масштаб. Подобно тому как «живая жизнь» «дала осечку» в истории «падения» Наташи, сбилась она с пути и в первом генеральном сражении русских войск с Наполеоном.
Историческая битва 2 декабря 1805 года действительно представляла разительный контраст относительно небольшому и успешному делу под Шенграбеном. Толстой увидел в таком положении вещей подтверждение собственных мыслей. Под Шенграбеном дело шло о спасении армии, спасении жизни. При Аустерлице русские надеялись одним ударом переломить ситуацию на Европейском континенте, за пределами единственно законных в романе ощутимо близких интересов. Первое из описанных у Толстого сражений 1805 года складывалось как бы само по себе. Во втором придворные чины вздумали «переиграть» Наполеона по его же правилам, прославиться и блеснуть. Начиная с наполеоновской мечты Андрея Болконского и кончая массовым восторгом каждого солдата, его самоуверенной готовностью легко разгромить врага, все представало как победа ложного над подлинным, как поражение, наступившее еще до начала битвы. Механический, «немецкий» «благоразумный» план полковника Вейротера оказался «венцом» такого нагромождения фальшивых, по мнению Толстого, ценностей.
Сквозной приметой аустерлицкого ландшафта в «Войне и мире» стал туман, заливающий (так было в действительности) утренние лощины, столь же непроницаемый в начале битвы, как затмившие для русских «свет жизни» отвлеченные, безжизненные начала. Это насквозь «политическое» сражение разворачивалось у Толстого полностью по законам «небытия» и привело армию русских к сокрушительному разгрому. Только дважды, словно возвращая всему происходящему по-толстовски подлинную меру вещей, накануне и в конце сражения, звучали в «Войне и мире» бессмысленные на первый взгляд слова кутузовского берейтора-конюха, по привычке дразнившего старика из дворовых людей русского генерала: «Тит! Ступай молотить». И эта нехитрая поговорка (ее приводил в своем собрании пословиц В. И. Даль) была словно голос дорогой Толстому «нормальной» жизни, которой даже в наступившем хаосе Аустерлица дела нет до «политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте».
Жизненные промахи своих героев, катастрофы в национальной истории Толстой нигде не рассматривал как бесповоротные. Более того, каждая победа безжизненных начал, какими их видел писатель, оборачивалась в романе неизбежным их посрамлением и торжеством побежденных. Тут заявляла о себе на первый взгляд вечная, небесная правда русской судьбы, правда Воскресения. Впрочем, Толстой исходил из более приземленной логики: природного торжества жизни, ее способности к постоянному возрождению.