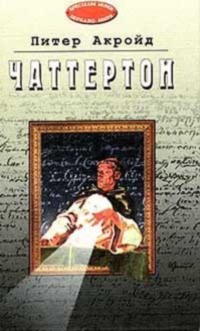Полная версия
Лондон. Биография
«У Лондона нет иных изъянов, – утверждает Фицстивен, – кроме неумеренного пьянства отдельных глупцов да частых пожаров». В этом он столь же точен, сколь и прозорлив. Впрочем, другие наблюдатели, писавшие в том же XII веке, но чуть позднее, были настроены более критично. Один йоркширский автор, Роджер Хауденский, сообщает, что сыновья богатых горожан собирались по ночам «в большие шайки», чтобы грабить и обижать всех, кто проходил мимо. Винчестерский монах Ричард Девизесский был менее сдержан в своих инвективах: для него Лондон – гнездилище зла и порока, куда стекаются не только отечественные пустозвоны и сводники, но и отребье всех прочих национальностей. Он описывает переполненные трактиры и харчевни, где постоянно играют в кости и бьются об заклад. Интересно, что он упоминает также theatrum – театр; это позволяет предположить, что для утоления любви лондонцев к зрелищам уже не хватало мистических и «чудесных» представлений в Кларкенуэлле («первые» театры 1576 года, «Театр» и «Куртина», наверняка образовались из зародышей, сведения о которых утрачены). Кроме того, у Ричарда имеется любопытное описание городского населения, включавшего «смазливых мальчиков, неженок, педерастов». Их сопровождали «знахари, танцовщики, колдуньи, вымогатели, ночные бродяги, чародеи, мимы» – здесь перед нами встает пестрота городской жизни, которую чаще воспевали, нежели проклинали такие разные авторы последующих столетий, как Джонсон и Филдинг, Конгрив и Смоллетт. Иными словами, она была присуща Лондону испокон века.
Уильям Фицстивен заметил, что «город поистине великолепен, когда у него хороший правитель (governor)». Само это слово может быть переведено как «руководитель» или «хозяин»; употребляя его, обычно имели в виду короля. Но в годы, следующие непосредственно за написанием хроники Фицстивена, оно стало приобретать и другие значения. Пришло время – в последнем десятилетии XII века, – когда по улицам прокатился клич: «Лондонцы не потерпят над собой иного короля, кроме мэра!» Эти возмущения были прямым результатом отсутствия короля, отправившегося в крестовый поход, в Европу и Палестину. Ричард I явился в Лондон на коронацию, происшедшую в первое воскресенье сентября 1189 года – «в день, отмеченный в календаре как несчастливый»; и действительно, «таковым он и оказался для лондонских евреев, загубленных в сей день». Эти загадочные слова относятся к массовой резне – Ричард Девизесский называет ее холокостом, – о которой историки, в общем, рассуждать не любят. Часто говорилось, что верховодили в ней должники евреев, и тем не менее трудно переоценить неистовость лондонской толпы – это были свирепые и безжалостные люди, которых не зря сравнивали с роем растревоженных пчел. Автор труда XVI века «Достопримечательности града Лондона» называет местное население «хлопотливыми пчелами»; согласно Томасу Мору, который писал в тот же период, стоявший на лондонских улицах гомон был «ни громок, ни внятен, но более всего походил на гудение пчелиного роя». В день коронации Ричарда эти пчелы зажалили евреев и их семьи до смерти.
В отсутствие короля, занятого религиозными войнами, лондонская верхушка снова выдвинулась в Англии на ведущую роль. Дух и волю лондонцев еще более укрепило то обстоятельство, что представитель Ричарда Уильям Лоншан поселился в Тауэре и принялся воздвигать вокруг него новые бастионы. В 1191 году, когда брат Ричарда Иоанн захотел овладеть короной, граждане Лондона собрались на фолькмот, дабы рассмотреть его притязания; в этот важный момент они согласились признать его королем, если он, в свою очередь, признает за Лондоном неотчуждаемое право жить «коммуной» как самоуправляющийся город-государство со свободными выборами руководителей. Иоанн дал на это свое согласие. Полученный городом статус не был новым, но правящий монарх впервые признал Лондон общественной организацией, «коей все благородные люди королевства, не исключая и епископов, обязаны присягать на верность». Это слова Ричарда Девизесского, который считал заключенное соглашение не чем иным, как «пузырем», то есть плодом чванства, и не ждал от него ничего хорошего.
Благодаря французам в слове «коммуна» слышится что-то радикальное или революционное, но революция, о которой мы ведем речь, была инициирована самыми богатыми и могущественными жителями Лондона. По сути, ее результатом стала гражданская олигархия, предоставление власти самым влиятельным семьям – Бейсингам и Роуксли, Фицтедмарам и Фицрейнерам, которые именовали себя аристократами, или «оптиматами». Эта правящая элита воспользовалась сложившейся политической ситуацией, чтобы заново утвердить власть и независимость города, ограниченную нормандскими королями. Итак, мы читаем в обширной городской летописи «Liber Albus» («Белая Книга»), что «знать града Лондона будет ежегодно избирать из своих рядов мэра… при условии, что ее избранник непременно будет представлен Его Величеству королю, а в отсутствие короля – его юстициарию». Таким образом мэр и состоящий при нем совет probi homines (честных людей) из олдерменов получили официальный и весьма высокий статус. Честь быть первым мэром Лондона выпала Генри Фицэйлуину оф Лондонстоуну, который оставался на этой должности двадцать пять лет, до самой своей смерти в 1212 году.
Почти сразу после установления власти мэра и «коммуны» в Лондоне возродился дух традиции – словно, вернув себе древние силы, город заново обрел и чувство истории. В Гилдхолле начали расти общественные архивы – сюда поступали на хранение завещания, хартии и документы различных гильдий; в этот же период было издано множество законов, указов и распоряжений. Так у Лондона появилось административное «лицо», которому обязаны своим возникновением такие позднейшие организации, как Столичное управление городского хозяйства и Совет Лондонского графства в XIX, а также Совет Большого Лондона в XX веке. Это картина органического развития, не угасшего со временем.
Кроме того, возникла нужда в людях, постоянно занятых на административной службе, – писцах, нотариусах, юристах. Был разработан необычайно сложный аппарат гражданского законодательства и учреждены суды для рассмотрения различных нарушений. Эти суды осуществляли и общее наблюдение за состоянием города – в частности, Лондонского моста и системы водоснабжения, – тогда как в ведении отдельных уордов находились местная санитария, мощение и освещение улиц. Уорды отвечали также за общественную безопасность и здоровье населения; для этого имелось двадцать шесть самостоятельных подразделений полиции, среди которых были «не получающие платы констебли… бидли, или глашатаи; уличная стража, или ночные дозорные». Дошедшие до нас свидетельства показывают, что эти должности были отнюдь не синекурой: в Лондоне конца XII столетия насчитывалось примерно сорок тысяч жителей, многие из которых вовсе не жаждали подчиняться предписаниям властей и соблюдать правила поведения, навязываемые им «оптиматами».
В 1193 году, когда в Лондоне объявили сбор денег на выкуп отсутствующего короля (краткое восстание его брата было решительно подавлено), многие горожане были очень недовольны этим распоряжением. В следующем году по случаю возвращения в Лондон Ричарда была устроена пышная церемония, но король не замедлил обложить город еще более тяжелыми поборами: однажды он якобы даже заявил, что «продал бы Лондон, если б нашелся покупатель», а это едва ли могло поднять его репутацию в глазах и так уже изнывающих под бременем бесконечных обложений местных жителей. Скорее всего, самое тяжкое бремя легло на плечи ремесленников и торговцев, стоявших по своему положению ниже «оптиматов», и в 1196 году вспыхнул мятеж этих лондонцев, возглавленных Уильямом Фицосбертом, «Длиннобородым». Борода была длинной, мятеж – коротким. Похоже, что Фицосберт получил поддержку многих горожан; в разных источниках его описывают как демагога и как защитника бедноты. По сути, эти характеристики не так уж несовместимы, однако само восстание отличалось безрассудством и свирепостью, столь обычными для города на Темзе. Фицосберт нашел убежище в Сент-Мэри-ле-Боу на Чипсайде, но в конце концов городские власти извлекли его оттуда и повесили в Смитфилде вместе с восемью другими мятежниками на глазах у его недавних сторонников. Но значение этой короткой вспышки состояло в том, что группа горожан отказалась подчиняться королевским чиновникам и богатым купцам, которые хозяйничали в городе. Она стала предвестием необходимых и неизбежных перемен: городское население начало отвоевывать себе место в управлении общественной жизнью.
Однако главным очагом напряжения и источником конфликтов по-прежнему оставались отношения между городом и королем. Смерть Ричарда I в 1199 году и воцарение Иоанна никак не смягчили антимонархических настроений, которые были словно органически присущи лондонцам. Продолжалась старая история: жителей города заставляли платить растущие налоги, или «пошлину», на покрытие королевских расходов. Мэр и самые влиятельные горожане пытались насаждать дух согласия – впрочем, отчасти это можно объяснить тем, что многие из них входили в непосредственное окружение короля и не обязательно выиграли бы от ограничения его власти. Но прочие лондонцы роптали все сильнее. Похоже, что король Иоанн, несмотря на данные им прежде обещания, присвоил себе право распоряжаться кое-какой городской собственностью, да и другие права; по словам летописца XIII века Мэтью Париса, после этого горожане превратились чуть ли не в рабов. Однако влияние фолькмота еще не сошло на нет. В 1216 году пять лондонских богачей выдали французскому принцу Людовику тысячу марок с тем, чтобы он приехал в Лондон и был коронован вместо Иоанна. Однако осенью того же года Иоанн умер. Лондонцы отправили Людовика обратно домой и приветствовали юного Генриха III, девятилетнего сына Иоанна, в качестве законного наследника короны.
Пройдемся по улицам Лондона в эпоху долгого царствования Генриха III (1216–1272). Большие дома стояли вдоль них рядом с лачугами, к прекрасным каменным церквам прилепились деревянные палатки, где торговали мелким товаром. Контраст между богатством и бедностью проявлялся и по-другому: из сорока тысяч горожан более двух тысяч принуждены были просить милостыню. Обеспеченные купцы строили себе роскошные хоромы, а в распоряжении нищего лавочника были две комнатки по десять квадратных футов для жилья и работы; у самых состоятельных горожан была превосходная мебель и серебро, а люди скромного достатка имели только орудия своего труда, примитивную кухонную утварь и глиняную посуду.
В документах по расследованию одного убийства (некий молодой человек зарезал ножом свою жену) случайно обнаружился перечень предметов обстановки «среднего» лондонского дома. Несчастливая пара обитала в деревянном домике из двух комнат, расположенных одна над другой под соломенной крышей. В нижней комнате с дверью, выходящей на улицу, стояли складной стол и два стула, а на стенах «висела кухонная утварь, инструменты и оружие». Среди них были сковорода, железный вертел и восемь латунных горшков. В верхнюю комнату поднимались по лестнице – здесь была кровать с матрацем и двумя подушками. В деревянном сундуке лежали шесть одеял, восемь льняных простынь, девять скатертей и покрывало. Из одежды, которая «хранилась в сундуках и висела на стенах», нашлись три накидки, одна куртка с капюшоном, два платья, еще один капюшон, кожаный рабочий костюм и полдюжины фартуков. Были еще свеча, две тарелки, несколько подушек для сиденья, зеленый коврик и занавески на дверях для защиты от сквозняков. Пол тогда устилали камышом, который, по-видимому, не вошел в опись. Это было маленькое, но уютное жилище.
Те, что победнее, снимали комнатки в домах, стоявших в узких переулках между широкими проспектами. Верхние этажи этих маленьких домов, так называемые соляры, выдавались вперед, так что между двумя рядами соляров едва проглядывало небо. Дома поменьше были в основном деревянными, с соломенной крышей, и напоминали саксонские и ранненормандские постройки; отчасти в Лондоне сохранилась атмосфера древнего города с его племенным и территориальным делением. Однако после многочисленных пожаров (особенно свирепым был Великий пожар 1212 года) вышел закон, обязывавший домовладельцев строить дома из камня и класть крыши из черепицы. Куски черепицы этого периода найдены в помойных ямах, колодцах, погребах, мусорных кучах и дорожных фундаментах. Однако переход от привычного дерева к камню еще не был полным, и в эту эпоху здания из старого и нового материала еще стояли бок о бок.
О том, как тогда выглядели улицы, можно судить по уцелевшим документам. Например, в жалобах и записках из Гилдхолла мы читаем, что управитель Ладгейта позволил завалить Флит экскрементами до такой степени, что течение в некоторых местах прекратилось; общественная уборная неисправна, и «нечистоты в сем месте разъедают камень стен». Владельцы трактиров в приходе Сент-Брайд выставили наружу пустые бочки и помойные ведра «для нужды всего прохожего люда». Кто-то жаловался на разбитую мостовую на Хоузьер-лейн, тогда как четырнадцать семейств, живших на Фостер-лейн, имели обыкновение «выбрасывать из окон нечистоты и выплескивать мочу к досаде всех населяющих сей уорд». Пекарей с Бред-стрит обвиняли в том, что у их лавок полно «грязи и мусора», а большой поток «воды с нечистотами и всякой иной дрянью» тек по Тринити-лейн и Кордуэйнер-стрит до Гарликхит-стрит, где, проложив себе путь между лавками Джона Гатерле и Ричарда Уитмена, сбегал в Темзу. Навозная куча на Уотергейт-стрит близ Бер-лейн «известна всем живущим окрест, и они сносят в нее содержимое своих отхожих мест и прочие мерзости». Есть сообщения о тухлой рыбе и гниющих устрицах, о сломанных общественных лестницах и завалах на мостовых, о закоулках, или «потайных углах», где собираются воры и «продажные шлюхи».
Но, пожалуй, самые красноречивые сведения о состоянии улиц можно почерпнуть из многочисленных правил, которые, как свидетельствуют материалы судов, постоянно нарушались. Торговцам предписывалось ставить свои лотки только на середине улиц, между «желобами», или канавами, тянувшимися вдоль обочин. На самых узких улочках эти канавы были прорыты посередине, так что прохожие волей-неволей прижимались к стенам домов. Мусорщики и уборщики каждого уорда должны были «следить за дорогами, разравнивать их, а также удалять всякую грязь»; эту «грязь» на запряженных лошадьми телегах доставляли к реке и вывозили на лодках, специально предназначенных для этой цели. Особые правила были установлены для вывоза отходов из мест, где забивали скот, – боен, оптового мясного рынка и рынка на Истчипе, – но жалобы на дурной запах все равно шли непрерывной чередой. В «Утопии» Мора (1516) забой скота происходит вне городских стен; эта выразительная деталь говорит о глубоком отвращении, которое вызывал у многих горожан этот промысел.
В «Liber Albus» указано, что свиньям и собакам нельзя позволять бродить по городу; еще более любопытно постановление, что «цирюльники не должны показывать кровь в своих окнах». Никому из горожан не дозволялось носить при себе рогатки для стреляния камнями, и все «куртизанки» обязаны были жить за городской чертой. Это последнее распоряжение нарушалось очень часто. Существовали также сложные правила, касающиеся возведения зданий и стен, с дополнительными оговорками для разрешения споров между соседями; здесь снова возникает картина многолюдного, тесно заселенного города. С той же целью обеспечения порядка и безопасности владельцам больших домов предписывалось держать наготове лестницу и бочку с водой на случай пожара; поскольку крыши было велено класть черепичные, а не соломенные, олдермены каждого уорда имели право делать обходы и удалять запрещенную солому с помощью шеста или багра.
О строгом надзоре над всеми горожанами говорит и наличие правил проведения частных и общественных мероприятий. Каждая сторона жизни людей регулировалась огромным количеством законов, постановлений и предписаний. Ни один «чужой человек» не мог провести под крышей горожанина больше одних суток, а поселиться в уорде мог лишь тот, кто «имел добрую репутацию». Прокаженным доступ в город был запрещен. Никому не дозволялось разгуливать по улицам «в запрещенные часы» – то есть после того, как прозвонят вечером в колокола, – иначе гуляка рисковал попасть под арест как «ночной бродяга». Запрещено было также «торговать в трактирах элем и вином после вышеуказанного вечернего звона… и оставлять в них кого бы то ни было, сидящего или спящего… и никто не должен приводить к себе домой посетителей из общественного трактира, ни днем ни ночью».
В летние месяцы вечерние колокола звонили в девять часов, а зимой – еще раньше, с наступлением темноты. Когда раздавался бой колоколов Сент-Мэри-ле-Боу, а за ним – церквей Сент-Мартин, Сент-Лоренс и Сент-Брайд, трактиры пустели, подмастерья и ученики кончали работу, гасились свечи, а городские ворота закрывались и запирались на засовы. Некоторые подмастерья считали, что звонарь Сент-Мэри-ле-Боу заставляет их чересчур долго трудиться, мешкая с «отбоем», и, как передает Джон Стоу, сочинили такой стишок:
Желтоволосый клирик из Сент-Мэри,Не спи, а то получишь в полной мере.На что клирик язвительно отвечал:
Дети Чипсайда, зря вы кричите,Буду звонить, когда захотите.По этим строчкам видно, что все горожане хорошо знали друг друга – каждому, например, было известно, что у звонаря желтые волосы. Но самое впечатляющее – это, пожалуй, образ темного и молчаливого города, забаррикадировавшегося от внешнего мира.
Эту тишину иногда нарушали отчаянные, пронзительные крики. Гражданам вменялось в обязанность «поднимать громкий шум» при любом нарушении порядка, и человеку, который «не поспешал на помощь, услыша таковой шум», грозил суровый штраф. Лондон был городом, где ради поддержания мира и покоя все следили за всеми, и сохранилось множество сообщений о том, как лондонцы поднимали тревогу, когда их сосед издевался над учеником или бил жену.
Однако вполне естественно, что самый обширный корпус законов Лондона – этого города, проникнутого меркантильным духом, – был посвящен регулированию коммерческих отношений. В ту пору существовали сотни правил, регламентирующих все стороны торговой деятельности. Например, продавцы сыра и птицы должны были «стоять между стоков на рынке Корнхилла, дабы не досаждать никому», а продавцам других товаров отводились в городе другие места. Ни одному торговцу не дозволялось «покупать что бы то ни было съестное для перепродажи, пока у Св. Павла не прозвонят к заутрене». Из двадцати предписаний, относящихся к одним только пекарям, можно выделить следующие: тем, кто изготавливал «торты» (tourte), то есть хлеб, выпеченный на сковороде, не разрешалось продавать белый хлеб, а на каждой буханке пекарь обязан был оставлять «свое клеймо». Закон гласил, что «рыба всякого рода, принесенная в город в корзинах, должна быть так же свежа сверху, как и со дна» и что «ни один незнакомец не должен покупать у незнакомца».
Рыбаки подчинялись сотням правил, определяющих, что, как и где они могут ловить; величина сетей и размеры их ячеек скрупулезно измерялись. Кроме того, существовала сложная система пошлин и налогов: указывалось, что «всякий, кто принесет сыру или птицы на четыре с половиной пенса, должен уплатить полпенни. Если пеший принесет сотню яиц или более, он должен отдать пять яиц». В случае «если мужчина или женщина привезут какую бы то ни было птицу на лошади и дадут ей коснуться земли», с нее или с него причитался больший налог. Это был сложный свод правил, но он преследовал простую цель: обеспечить жителей города приличной пищей и одеждой. С одной стороны, он препятствовал тому, чтобы покупатели и продавцы предъявляли друг другу чрезмерные требования, с другой – защищал право жителей торговать в городе, не опасаясь засилья «чужих», или «незнакомцев». Была у него и еще одна немаловажная цель: систематизировать торговлю, чтобы уменьшить риск появления на рынке фальшивых мер, испорченных продуктов и некачественных товаров.
Однако на улицах этого процветающего, пестрого и деятельного города порой происходили и трагические события. В судебных отчетах этого периода можно прочесть о безымянных нищенках, падавших и умиравших на мостовой, о нередких самоубийствах, о многочисленных роковых случайностях: «утоп в канаве за Олдерсгейтом… упал в чан с горячим суслом». Мы узнаем, что «бедная маленькая женщина по имени Алиса была найдена утопшей за городской стеной. Подозреваемых нет… Некто Элиас де Пуртур, несший сыр, упал замертво на Бред-стрит… Девочка лет восьми была найдена мертвой на церковном дворе Сент-Мэри-Сомерсет. Предполагается, что ее выбросила туда какая-то проститутка. Подозреваемых нет». Самоубийство в этот век набожности могло считаться только результатом помешательства. Изабель де Пампесуорт «повесилась в припадке безумия» в своем доме на Бред-стрит. Алиса де Уэйнвик «утопилась в Даугейтской гавани, будучи non compos mentis [не в здравом рассудке]». Пьянство было всеобщим, и сообщения о гражданах, выпавших с соляра на землю, нырнувших со ступеней набережной в Темзу или свалившихся с деревянной лестницы, встречаются постоянно. Перечень этих и других печальных происшествий можно найти в книге «Лондонский суд 1244 года». Некоторые записи весьма живо рисуют эпоху. «Некий человек по имени Таррок» был найден мертвым, но «обнаружилось, что в постели усопшего в момент его смерти лежали три человека… и они получили волю», – последнее означает, что с них были сняты все обвинения. В другом случае «Роджер ударил Мод, жену Гилберта, молотком между плеч, а Мозес ударил ее рукоятью меча в лицо, выбив многие зубы. Она оставалась живою до праздника св. Марии Магдалины, а затем умерла».
Эта литания смертей и несчастий говорит о жестокости и насилии, царивших на городских улицах: люди были вспыльчивы, и жизнь ценилась очень дешево. «Генри де Бук убил ножом некоего ирландца, мастера по кладке черепицы, на Флит-Бридж-стрит, и спрятался в церкви Сент-Мэри-Саутуорк. Он признал свою вину и… отрекся от подданства. Никакого имущества у него не было». Ссора троих мужчин в трактире на Милк-стрит привела к трагедии: на одного из них напали с «ирландским ножом» и «мизерикордом» (кинжалом, которым «милосердно» добивали поверженного врага); смертельно раненный человек добрался до церкви Сент-Питер на Чипсайде, причем никто из свидетелей драмы не предложил ему помощь.
Члены разных торговых гильдий вступали в открытые схватки на улице; например, группа ювелиров напала на шорника – ему раскроили голову мечом и отрубили топором ногу, да еще отколотили дубиной; он умер пять дней спустя. Когда в Олдерсгейте взбунтовались помощники стряпчих, какой-то горожанин «ради забавы» пустил в толпу стрелу, которая убила невезучего зеваку. «День любви», устроенный с целью примирения медников и кузнецов, изготавливавших железные изделия, обернулся всеобщим буйством. Когда компания гуляк ворвалась в трактир и один из посетителей спросил: «Кто эти люди?» – его немедленно зарубили мечом. На улицах то и дело вспыхивали драки, устраивались засады и разгорались споры из-за ничего – или, как тогда говорилось, «из-за козлиной шерсти». Партии в кости и триктрак часто кончались пьяными потасовками, причем ясно, что некоторые хозяева игорных заведений беззастенчиво обманывали своих клиентов. О многом говорит то любопытное обстоятельство, что представители властей и приходские священники быстро реагировали на религиозные нужды искалеченных или умирающих, однако им очень редко пытались оказать медицинскую помощь, призвав на место происшествия врача или цирюльника, умеющего отворять кровь. Раненых обычно не трогали, предоставляя им жить или умереть, как то будет угодно Провидению.
Много было нападений на женщин; в судебных отчетах описываются случаи, когда жительницы Лондона умирали в результате нанесенных им побоев или становились жертвами жестокого предумышленного убийства. Некая Леттис обвинила виноторговца Ричарда из Нортона в том, что он «изнасиловал ее и лишил девства», но эта жалоба не стала предметом судебного разбирательства. Избиения жен были часты и обычно оставались безнаказанными, но женщины, подвергавшиеся нападениям, иногда в свою очередь проявляли агрессию. Одна пьяная горожанка принялась выкрикивать оскорбления в адрес строителей, работавших на углу Силвер-стрит, – она называла их «tredekeiles», что можно перевести как «паршивые тупицы», – и быстро спровоцировала драку, в которой один человек был убит ножом в сердце. Женщины могли взять на себя и отправление правосудия, жестокое даже по лондонским меркам: когда некий бретонец убил вдову в ее постели, «женщины того прихода вышли наружу с камнями и собачьим дерьмом и прикончили убийцу прямо на улице».
Олдермены и дозорные каждого прихода имели дополнительные обязанности, которые проливают любопытный свет на обычаи средневекового Лондона. Например, они обязаны были арестовать всякого, кто появится на улице в маске: считалось, что маску может носить только преступник. Судя по материалам судебных архивов, этим должностным лицам предоставлялось также право снимать двери и окна в любом доме с сомнительной репутацией; есть запись о том, как они «вошли в дом мясника Уильяма Кока на Кокс-лейн и сорвали одиннадцать дверей и пять окон при помощи молотков и зубил». Показательно, что имя нарушителя, его профессия и название улицы, на которой он проживал, тесно связаны между собой[12] в характерной для Средневековья манере: отсюда можно заключить, что жители целого района часто занимались одним и тем же ремеслом (в данном случае резали птицу). Другие отчеты также весьма интересны, хотя и повествуют о менее бурных событиях. Ночные сторожа арестовали нескольких учеников за то, что они наполнили бочку камнями и скатили ее под уклон от Грейсчерч-стрит к Лондонскому мосту, «учинив панику среди окрестных жителей».