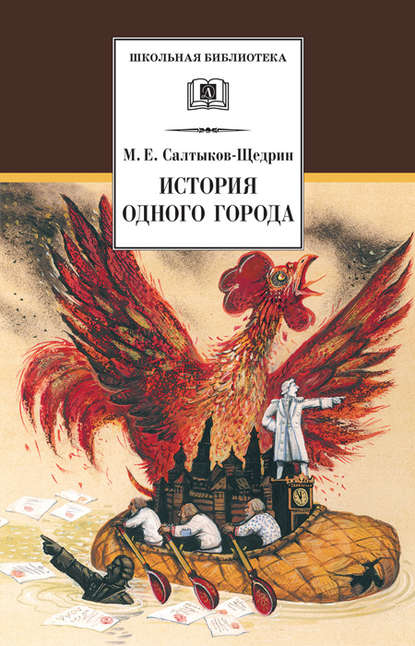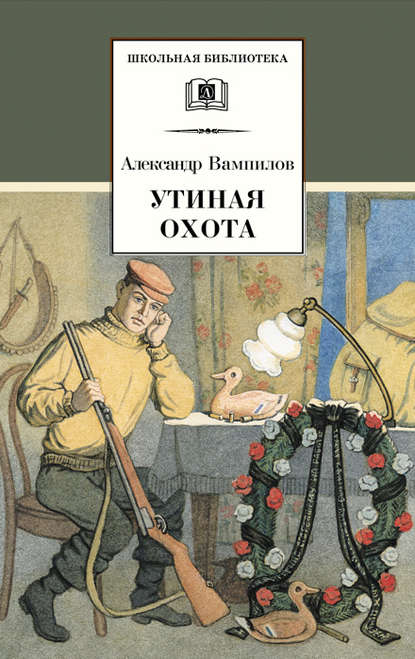Полная версия
Отпуск по ранению
Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолетно: что, допрыгался, предупреждал я…
Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маятными, такими же мытарными… И тихо бывало так же. Только теперь за спиной Сашки шумно глотал слюну немец и поскрипывали его сапоги на переступающих на одном месте ногах.
Комбат докурил, затоптал носком сапога брошенный окурок, опять отбросил налезший на лоб клок и, шагнув к Сашке, уперся в него своим неморгающим тяжелым взглядом.
"Теперь конец, – подумал Сашка, – сейчас закричит, затопает, вытащит пистолет, и что тогда?"
Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нем чувство собственной правоты, встретил взгляд капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить: "Ну, что будешь делать? Меня стрелять? Ну, стреляй, если сможешь, все равно я правый, а не ты… Ну, стреляй… Ну…"
Чуял Сашка; озлится комбат на его непокорный ответный взгляд, но на Сашку тоже накатило, ничего ему не страшно, будь что будет… И верно, раздул капитан ноздри своего чуть кривоватого, с горбинкой носа, но не закричал, не затопал, к кобуре руку не потянул, а глядел на Сашку хоть и сурово, но без злобы, очень серьезно и вроде раздумчиво, – может, отошел малость, одумался…
Это дало Сашке надежду, и вызов в своих глазах он погасил, и смотрел на комбата уже без дерзости, но твердо, хотя и колотилось сердце как бешеное, отдаваясь болью в висках.
И отвернул глаза капитан.
– Пойдем, – сказал он пораженному ординарцу, который хотел было что-то вякнуть, но не вякнул, а повернулся кругом, еле успев задеть Сашку недоуменным взглядом.
Сашка же стоял окаменело в той же стойке "смирно", все еще не сводя глаз с комбата, все еще не зная, радоваться ему или нет.
Уже на ходу, на миг остановившись, комбат повернулся к Сашке и бросил:
– Немца отвести в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.
У Сашки засекся голос ответить "есть", закружилось все, и чуть не осел он у обгоревших бревен, чувствуя, как железный обруч, стягивавший его голову все это время, начинает понемногу ослабевать и наконец отпускает совсем.
– Повторите приказание, боец! – словно издалека услышал он капитана и, набравши воздуху, выдохнул:
– Есть отвести немца в штаб бригады! – очень громко, как ему казалось, а на самом деле еле слышно.
– Выполняйте! – Комбат зашагал так же ровно, неспешно, сильно размахивая левой рукой, а около него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые непонимающие взгляды на Сашку.
Сашка же вздохнул глубоко, полной грудью, снял каску, обтер со лба пот, провел рукой по ежику отросших за эти месяцы волос и окинул взором все окрест – и удаляющегося комбата, и большак, и церкву разрушенную, которую и не примечал прежде, и синеющий бор за полем, и нешибко голубое небо, словно впервые за этот день увиденное, и немца, из-за которого вся эта неурядь вышла, и подумал: коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым незабывным…
2Поначалу, когда что-то толкнуло Сашку и сразу вдруг ничего не стало видно, кроме неба, он ничего не понял.
Только потом, когда вырвавшийся из рук котелок со звоном поскакал вдоль ручья, а левую руку в двух местах ожгло болью, до него дошло – ранило.
Но, обнаторенный двухмесячной игранкой со смертью, Сашка даже не повернул головы, лежал недвижно и только тихонько подвигал пальцами: шевелятся – значит, порядок, и только не колыхаться, немец-то наблюдает и, стоит шелохнуться, резанет очередью. Но долго смотреть в одну точку тот стомится и, убедившись, что русский готов, удоволенно хмыкнет и потянется за сигаретами… Вот тогда можно рвануть, но как угадать?
И потому лежал Сашка застывше, уставившись в небо, чувствуя, как быркая вода, промочив ватник, заледенила спину, затекла в левый ботинок и ознобила все тело.
Но все же надо поглядеть, что сотворил немец с его рукой, и Сашка скосил глаза. Из разорванного в двух местах рукава телогрейки торчала вата, но не белая, а бурая, и два темных до коричневости пятна медленно расплывались вокруг дырок.
"Почему это кровь не красная?" – удивился Сашка, а потом испугался, что уйдет она из него вся без перевязки и не добраться тогда до санвзвода. И страсть как захотелось очутиться на верху оврага, перевязаться и немедля в тыл, пока есть еще силенка и пока не добили.
Но что-то удерживало Сашку внизу – как бы не промахнуться. И, все так же бессмысленно глядя в небо, старался он представить себе немца, который его подбил. И виделся ему его враг не таким, каким был взятый им недавно в плен немец, а совсем другим – старым, с лицом злым и желтым, как у трупов, а из-под нахлобученной каски выпучен белесый, прижатый к окуляру глаз, нацеленный на Сашку, а скрюченный палец на спусковом крючке готов вот-вот сжаться, чтоб пустить очередь.
И вдруг словно воочию увидел Сашка, как отнял немец руку от оружия и зашарил ею по карману – но глаза все еще на прицеле, – как вынул сигареты, потом зажигалку, и тут… тут надо рвать! И Сашка не замешкался, вскочил рывком, охнул от боли, и пулей через ручей, и взлетом по склону оврага. Плюхнулся он на землю под первой же елью. Дальше не побежал – нельзя! Если приметил его фриц, то хлобыстнет поперед его, хлобыстнет наобум, но может и прибить…
И впрямь пулевая очередь проскочила впереди Сашки, посбивала ветки с деревьев, потом прорезала в правую сторону, где шел дальше редкий подлесок и где обитает его первая, битая-перебитая рота в тринадцать штыков – чертова дюжина, – измытаренная, оголодалая, мокрая.
Кривясь от боли, стащил Сашка с левого плеча ватник, засучил рукав гимнастерки и увидел рваное, развороченное мясо – одна из пуль прошлась касательно – и кое-как, наскоро перевязался.
Крови было почему-то немного, и подумал Сашка, что от этой треклятой жизни на передке ее вообще у него осталась самая малость. В голове кружило, тело обмякло в слабости, и захотелось курнуть, хоть одну затяжку сделать, чтоб приободриться, но одной рукой самокрутку не свернешь, да и табачишко у него – одна труха, придется перетерпеть.
"Ну что ж, – подумал Сашка, – полежу чуток, отдышусь и в тыл… Неужто отвоевался на время, неужто живым отсюда выберусь?" Даже не верилось.
Спустя немного поднялся он и небоязно – закрывали его тут деревья и кустарник – затопал по тропке, ведущей в тыл, но, не пройдя и десятка шагов, остановился… Постоял в нерешительности недолго, потом, махнув рукой, двинулся дальше.
На передовой такой порядок: если ранило, уходишь в тыл, отдай свой автомат или СВТ оставшимся, воевать которым, а сам бери родимую трехлинейную, образца одна тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, которую и сдашь в тылу. Будет проходить Сашка расположение второй роты, там и произведет обмен. Но его-то роте ППШ тогда не достанется… Сашка опять приостановился. Да и с ребятами, и с ротным надо бы проститься, начал уговаривать он себя, потому как смертно не хотелось ему перебегать опять этот проклятущий ручей, возле которого не один десяток пробитых котелков и касок… И главное, уж больно редок лесок за оврагом, кустики одни да осинки тонкие. Сквозь них весь на виду будет Сашка, и только метров через сто станет укрытистей. Вот эти-то метры самые злые, и если приметит его там немец, врежет наверняка!
И Сашка заколебался… Конечно, фриц не ждет его обратно – какой дурак, ежели ранен уже, попрется назад, на тот гнилой болотный пятачок! – немец ждет кого другого, кто приползет за водичкой, и наблюдает, конечно, зараза. И дважды придется пройти Сашке под смертью – туда и обратно. А такая неохота, если добьют.
Но Сашка все эти страшные два месяца только и делал, чего неохота. И в наступления, и в разведки – все это ведь через силу, превозмогая себя, заколачивая страх и жажду жить вглубь, на самое донышко души, чтоб не мешали они делать ему то, что положено, что надо.
Но сейчас-то это надо не так уж обязывало, потому как раненый он и имел право распоряжаться собой по-своему и надо ему топать поскорей по этой тропке, которая в тыл, которая к жизни, да поторапливаться, пока тихо, пока силы есть… Но пока эти мысли крутились в голове, ноги принесли его обратно к оврагу.
И здесь с ходу, даже не приостановившись – потому, если задержаться хоть на минуту, не заставить себя дальше, – бросился Сашка вниз по уклону, перемахнул через ручей и грохнулся на землю уже на той стороне, вжался в траву и замер, ожидая выстрелов, но их не было – проморгал фриц! Но сердце колотилось как бешеное, и пришлось Сашке некоторое время полежать, прежде чем поползти дальше.
Как ни старался он не бередить раненую руку, задевалась она о землю и мешала. Мешал и автомат, и диски у пояса, и гранаты, и каска, налезавшая на лоб, и не раз замирал Сашка для передыху.
Миновав это гиблое, прозорное место, он приподнялся и заковылял в расположение роты, но не совсем в рост, а пригнувшись.
Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, кругом вода. Даже мелкие воронки от мин и те ею дополна, и ютилась, битая-перебитая, в шалашиках. Только у ротного был жиденький блиндажик, на бугорке выкопанный, но и в нем воды до колена. К нему-то и держал Сашка направление.
Ротный стоял у своего обиталища и, видно, ждал Сашку. Он ведь и послал его за водой к ручью.
– Вот ранило, товарищ командир, – словно извиняясь, доложил Сашка. – Снайпер поймал, чтоб его…
– Зачем вернулся? – перебил ротный.
– Автомат принес… Да и с ребятами проститься…
– Тоже мне, сантименты, – буркнул ротный свое любимое словечко.
– Неудобно же так, не доложив… – Сашка бережно опустил автомат на землю.
– Ладно. Не задерживайся только, чем черт не шутит…
– Закурить бы… Не завернете, товарищ командир?
– Сейчас.
Ротный вынул кисет и немного дрожащими пальцами стал крутить большую цигарку. Ему тоже это несподручно: руки-то у него перевязаны. Уж месяц, как пошла по ним какая-то болезнь нервная от этой их жизни, что невпроворот, но в санчасть ротный не шел, а когда ребята уговаривали, отделывался небрежно этими своими "сантиментами".
Сашка принял цигарку, поблагодарил, затянулся во всю мочь, и поплыло все перед глазами – хорошо…
Подошли бойцы-товарищи, обступили Сашку, обглядели.
– Отвоевался, Сашок.
– По-легкому отделался – в ручку.
– Повезло черту…
– А он везучий, Сашка-то.
– К праздничку в тыл подастся.
– Я говорю, везучий.
– За нас праздник отгуляй. Прижми в санроте сестренку какую за всех нас. – Это сержант сказал. На передке недавно, из разведки прислали. На несколько деньков его хватило анекдоты да байки про баб рассказывать, а потом заглох, сник, жадные глаза навыкат потухли.
– Он прижмет! Его самого сейчас… Верно, Сашка? С наших харчей не разбежишься.
Потом присели кто куда и откурили. Молча.
– Давай отваливай, Сашок. – Ротный тронул его за плечо. – Нечего рассиживаться.
Сашка поднялся. Конечно, надо идти, чего судьбу пытать, но неловко как-то и совестно – вот он уходит, а ребята и небритый осунувшийся ротный должны остаться здесь, в этой погани и мокряди, и никто не знает, суждено ли кому из них уйти отсюда живым, как уходит сейчас он, Сашка.
И топтался он на месте, все не решаясь стронуться, пока ротный не прикрикнул:
– Прирос ты, что ли! Проводите его, сержант, до ручья.
– Сменят вас! Скоро сменят! Сколько ж можно? Сменят обязательно, – торопливо, словно боясь, что перебьют, залепетал Сашка. – Свидимся еще. Я из санроты ни ногой, дождусь вас беспременно.
– Ладно, не загадывай. – Ротный протянул руку. – Ну, бывай, Сашок, смотри, чтоб не добило. Не хочу я этого. Понял? – И подтолкнул тихонько Сашку.
– До встречи, ребята! – бодро выкрикнул Сашка и сам почуял фальшивину в этой бодрости, потому как знал он точно: никаких встреч со многими оставшимися здесь не бывать, а кому уж из них остаться здесь, на этой ржевской, набухшей от крови земле, – это уж судьба…
Сашку немного пошатывало, и сержант поддерживал его за локоть. Перед тем местом, откуда ползти надо, посидели они чуток, и скрутил сержант Сашке на дорогу самокрутку, да не из "легкого", а из махорочки. Продрала она до самого нутра, приглушила боль.
– Счастливый ты, Сашка… – не тая зависти, протянул сержант.
Хотел было ответить Сашка, что нечего пока ему завидовать: впереди ручей, два километра по передовой, да и Черново обстреливают. Верст шесть надо пройти, тогда можно сказать наверняка – отвоевался, а пока…
Но глянул на сержанта, а у того глаза словно пленкой какой подернуты, нехорошие глаза, и ничего не ответил, – конечно, счастливый по сравнению с другими-то.
Долго набирался Сашка духу перед оврагом – страшно через него идти. Пожалуй, ползком придется. Конечно, замокришься весь, в грязи изваляешься, зато фриц не заметит… Но неподобно Сашке, бывалому бойцу, праздновать напоследок перед немцем труса. И опять в рост метнулся он через овраг, и опять стрекотнула по нему очередь, и опять отлеживался он под той же елью… Только теперь немец так быстро не отстает, поливает и поливает… Вот и мины пустил, зараза, чтоб ему провалиться, и шлепнулась одна прямо в ручей, обдав Сашку комьями грязи.
"Вот язвы так язвы! – шептал он. – Неужто не дадут уйти, гады?" Но где-то предчувствие – обойдется… Минут пятнадцать бушевал фриц, а для Сашки век целый.
"Теперь все, никаких задержек больше", – сказал он себе и что было сил затрусил по тропке. До второй роты шла она вдоль опушки, и виднелось ему сквозь деревья поле, то страшное ржавое поле, по которому бегал и ползал и на котором мог бы остаться навечно, как остались многие его друзья-товарищи.
Там, где тропа сворачивала влево, в глубь леса, он приостановился и окинул последним оглядом это поле и попрощался мысленно со всеми, там оставшимися… Не его вина, что не разделил он их судьбу, выпал ему просто счастливый случай до времени, но впереди-то у него еще вся война…
Свернув в лес, Сашка поспокойнел. И идти тут легче – посуше.
Два месяца не гляделся он в зеркало. Тот осколочек, что употреблял при бритье, показывал ему только отдельные части лица, ну а осмотреть себя всего где уж…
А вид был у него не ахти: обгоревшая, заляпанная грязью телогрейка вся в дырах, брюки ватные в клочьях, из дыр на коленях просвечивали другие брюки, диагоналевые, тоже протертые, и виднелись из них бежевые теплые кальсоны, а потом уж и тело синело; ушанка, задетая пулей (каски-то не всегда надевали), тоже растерзана, обмотки цвет свой потеряли и рыжи от налипшей глины, а руки черные, обожженные… Грели их над костром, а когда задремлешь на миг, падали они в огонь безжизненно, оттого и ожоги.
Не один Сашка такой, все на передке такие же и как бы в порядке вещей, но сейчас ощутил он на себе весомость двухмесячной грязи и замечтал о бане: как прогреет в парилке вконец измерзшее тело, как сдерет с него коросту наросшей грязноты, как наденет после прожарки горячее белье и как избавится наконец от противного зуда, изводящего всех их постоянно… Даже блаженная улыбка проползла по Сашкиным губам, когда представилось это, но в тот же миг очутился он на земле – тонко пропели две шальные пули над головой.
И понял он: ничего загадывать пока нельзя, слишком ненадежно пока его бытье. Так и смерть может захватить расплохом… И навалился на Сашку после этих пуль страх: как бы не добило.
Насколько позволяли силы, прибавил он шагу, проклиная голодуху. Из-за нее, проклятой, не может он сейчас убыстрить ход и плетется, как обезноженный, а не ровен час, надумает фриц из миномета бабахнуть или "рама" в небе загудит, которая хоть и для разведки, но может и бомбами закидать, что не раз бывало.
Лес погустел, потемнел, и пала на Сашку мысль, что не выпустит его передовая, что возьмет свое напоследок, не даст добраться до тыла живым, и так тошно стало, что остановился он, прислонился к ели и стал пытаться одной рукой цигарку завернуть, – может, легче станет. Сыпался табак, рвалась газетка, но кое-как прислюнявил он самокрутку, кое-как выбил искру "катюшей" и закурил.

О многом передумалось здесь за эти месяцы, вдосыть набедовался Сашка под этими ржевскими деревеньками, которые брали, брали, да так и не смогли взять… Но ни разу не засомневался он в победе. Казалось уж яснее ясного – сильнее немец пока и воюет осторожно, людьми не раскидывается, ночами бережется… Сколько ракет надо иметь, чтобы вот так все ночи подряд запуливать их в небо без передыха, – уйму. Мин и снарядов тоже не жалеет. Значит, навалом их у него…
Но все же знал Сашка точно – не победить немцу! Да и деревни эти могли бы взять. Один раз совсем уже подобрались. Чуток бы огоньку да пару "тридцатьчетверок" – и хана фрицам.
Понимал он и то, что дело не только в недохвате снарядов и мин, но и порядка было маловато. Не научились еще воевать как следует что командиры, что рядовые. И что учеба эта на ходу, в боях идет по самой Сашкиной жизни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, но не обезвéрел и делал свое солдатское дело как умел, хотя особых геройств вроде не совершал. И совсем не думал, что одно нахождение тут, в холоде и голоде, без укрытий и окопов, под каждочасным обстрелом, является уже подвигом.
Наконец-то поредел лес, посветлело впереди, и должно вскоре показаться Черново. И тут вспыхнуло в Сашкиной душе чувство чего-то очень хорошего, что ждет его впереди, но он безжалостно погасил его. Не о доме то, не о матери… До дому ему не добраться. Ранение легкое, отлежится в санроте и опять айда обратно, но именно в санроте и ждало его то радостное, о чем и гадать было страшно, как бы не сглазить… И не разрешил себе Сашка никаких мечтаний – ох как далече до настоящего тыла, и всякое может приключиться.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.