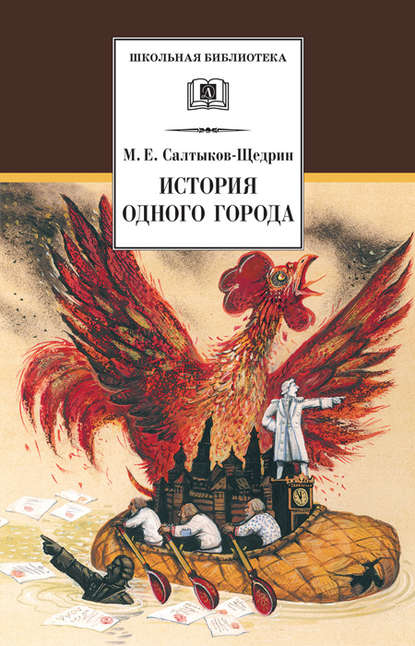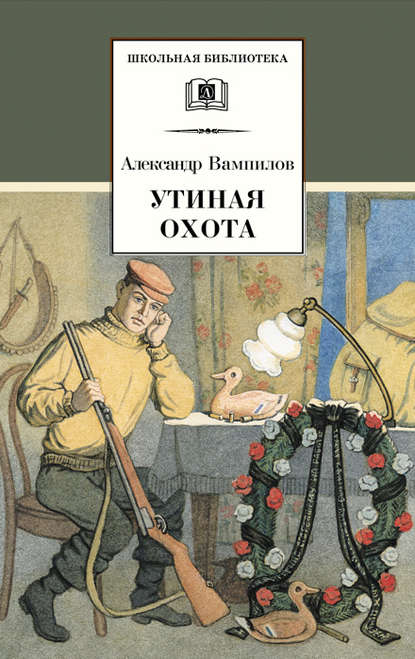Полная версия
Отпуск по ранению

Вячеслав Леонидович Кондратьев
Отпуск по ранению
Повести
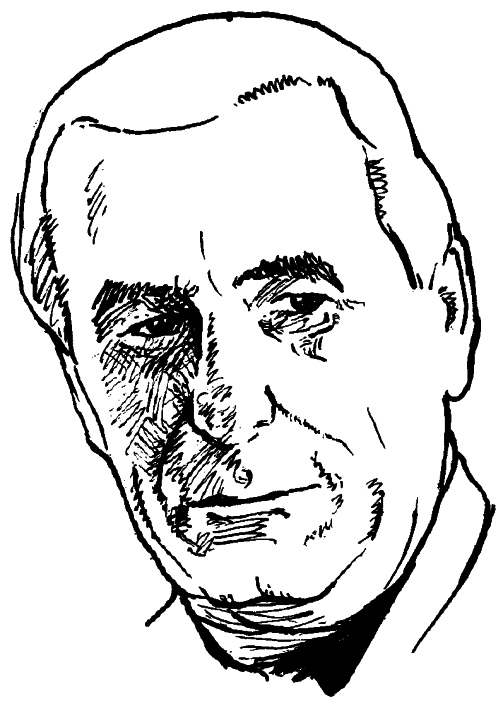
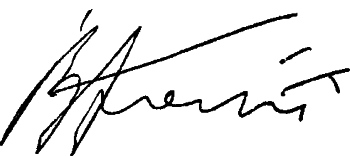
Окопная правда
Вячеслав Кондратьев и его «ржевская» проза
На склоне дней больной, одинокий Джонатан Свифт писал с печалью: «Потеря друзей – это тот налог, которым облагаются долгожители».
Пришло время и мне платить этот скорбный налог: многие друзья ушли в мир иной. Вячеслав Кондратьев, чья жизнь трагически оборвалась в 1993 году, был для меня не только автором обжигающе талантливой военной повести, но и другом. И связывали нас не одни лишь литературные вкусы, но прежде всего и больше всего жизненный опыт, общая военная, фронтовая судьба. Оба мы были окопники, как сказано об этом в одной из самых популярных песен Булата Окуджавы, певца нашего, скошенного свинцом почти под корень поколения: «А мы с тобой, брат, из пехоты…»
Я хорошо помню, где и как мы познакомились с Кондратьевым. Было это в 1979 году – то ли в конце марта, то ли в начале апреля – в Ленинке после читательской конференции по роману Симонова «Так называемая личная жизнь» (последней такого рода его конференции – через полгода Константина Михайловича не стало). Когда растаяла длинная очередь жаждущих получить у известного писателя автограф, Симонов представил мне ожидавшего его человека: «Это автор „Сашки“.
Тогда в февральской книжке журнала „Дружба народов“ с предисловием Симонова и его стараниями была наконец напечатана эта первая повесть Кондратьева. Симонов радовался появлению „Сашки“ так, словно это было его собственное произведение, с величайшим трудом пробившееся на журнальные страницы. Он хорошо знал цену правды о войне – и как нелегко она писателю дается, и как непрост ее путь к читателю.
Чем-то Кондратьев походил еще на одного ушедшего моего друга – Виктора Некрасова, родоначальника прозы фронтового поколения, автора ставшей уже классикой повести «В окопах Сталинграда», вытолкнутого в эмиграцию еще до литературного дебюта Кондратьева. Обоим писателям была свойственна интеллигентность, демократичность, особого рода моложавость (которая есть свойство не столько физическое, сколько душевное), страстная ненависть ко лжи, демагогии, к фашизму и к родному, отечественному тоталитаризму – любых тонов и оттенков.
Они, Кондратьев и Некрасов, испытывали взаимную глубокую симпатию. Кондратьев не раз повторял: «Все мы вышли из некрасовских „Окопов“.» А Некрасов, говоря в одной из своих последних статей о произведениях, появившихся в ту пору, когда он был уже в эмиграции, признавался: «Один Вячеслав Кондратьев всколыхнул меня своим „Сашкой“.» И как я мог догадываться, туристическую поездку во Францию – дело по тем временам хлопотное, сопровождавшееся всевозможными унижениями, требовались справки, характеристики, – Кондратьев затеял главным образом для того, чтобы познакомиться, повидаться с Некрасовым (затея, кроме всего, небезопасная, поскольку Некрасов числился нашими властями в отъявленных «антисоветчиках»). Эта моя догадка потом подтвердилась. Возвратившись из Франции, Вячеслав светился от радости, показывая мне фотографию, на которой был снят вместе с Некрасовым в Париже.
Четверть века назад Василь Быков, размышляя о состоянии и перспективах литературы о Великой Отечественной войне, высказал важное, как я полагаю, принципиального характера соображение: «… Я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920–1925 годов рождения? Это – пехота. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера – пехотинца, который мог бы сказать ныне, что прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо. Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота».
Повести и рассказы Кондратьева – за «Сашкой» последовали «Отпуск по ранению», «Селижаровский тракт», «Овсянниковский овраг», «День победы в Чернове», «Борькины пути-дороги», «Знаменательная дата» и другие – возникли именно на том направлении нашей литературы о войне, которое выделял Быков и на котором было не так много заметных удач. Они посвящены пехотинцам, окопникам. И автор их – тоже из пехоты. О его фронтовой судьбе рассказывал в предисловии к журнальной публикации «Сашки» Константин Симонов: «… Несколько слов о военной биографии писателя. С первого курса – в 1939 году – в армию, в железнодорожные войска, на Дальний Восток. В декабре 41-го – один из пятидесяти младших командиров, отправленных из полка на фронт после подачи соответствующих рапортов.
В составе стрелковой бригады – на переломе от зимы к весне 1942 года – под Ржев, а если точней, чуть северо-западнее его. Помкомвзвода, комвзвода – временно, за убылью командного состава, принял роту; после пополнения – снова комвзвода. Все это за первую неделю. Потом новые бои, такие же тягостные, неудачные – словом, те же самые, которые с перехваченным горечью горлом вспоминают фронтовики, читая или слушая «Я убит подо Ржевом» Твардовского. Убит – эта чаша миновала автора «Сашки». На его долю досталось ранение и медаль «За отвагу» – за отвагу там, подо Ржевом…" Вот что рассказывал Симонов. Но и без этого предисловия, из самих сочинений Кондратьева ясно – так написать можно только о пережитом, о том, что с тобой было, что ты видел своими глазами…
Литературный дебют Кондратьева был явлением неожиданным, совершенно уже нежданным – прецедентов не было, я, во всяком случае, припомнить не могу. В столь зрелом возрасте (через год после публикации "Сашки" Кондратьеву стукнуло шестьдесят, у него в руках была серьезная профессия художника-оформителя, которая кормила его не одно десятилетие) если и берутся за перо, то с единственной целью – написать мемуары. И тут, мне кажется, и нужно искать главное объяснение этого все-таки из ряда вон выходящего случая. В том-то и дело, что своего рода мемуарность – существенная, можно сказать, родовая особенность почти всей военной прозы писателей фронтового поколения. Эта проза не всегда строго автобиографична, но она насквозь пропитана воспоминаниями о фронтовой юности. Всех их, писателей этого поколения, буквально выталкивала в литературу сила пережитого, и повести о военной юности, которые они написали, особенно первые, были одновременно и солдатскими и лейтенантскими мемуарами. Теми мемуарами, которые в самом деле никто никогда не отваживался писать. Вячеслав Кондратьев в этом смысле исключения не составляет – вот разве что очень уж много времени прошло после войны. Каков же был заряд пережитого, чтобы сработать и через три с лишним десятилетия!
В своих заметках о том, как создавался "Сашка", Кондратьев писал: "Я начал жить какой-то странной, двойной жизнью: одной – в реальности, другой – в прошлом, в войне. Ночами приходили ко мне ребята моего взвода, крутили мы самокрутки, поглядывали на небо, на котором висел "костыль", гадали, прилетят ли после него самолеты на бомбежку, а я просыпался только тогда, когда черная точка, отделившись от фюзеляжа, летела прямо на меня, все увеличиваясь в размерах, и я с безнадежностью думал: "Это моя бомба…" Начал я разыскивать тогда своих ржевских однополчан – мне до зарезу нужен был кто-нибудь из них, – но никого не нашел, и пала мысль, что, может, только я один и уцелел, а раз так, то тем более должен я рассказать обо всем. В общем, схватила меня война за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже просто не мог не начать писать".
О силе этого чувства, об одержимости – иное слово здесь не подходит – автора, для которого то, что он стал писать о войне, было не только литературной задачей, но и смыслом и оправданием его жизни, выполнением долга, свидетельствует хотя бы такой факт. Не напечатав еще ни одной строки из написанного, не имея никаких гарантий, что какое-нибудь из его произведений увидит свет (а надо ли говорить, как важен этот стимул для художника), Кондратьев продолжал писать повесть за повестью, рассказ за рассказом. И многое из того, что увидело свет после "Сашки", было написано до этой повести или одновременно с нею. Только страстная вера в то, что он обязан рассказать о своей войне, об однополчанах, которые сложили голову в затяжных, стоивших нам больших жертв боях подо Ржевом, – а люди должны узнать обо всем этом, – только такая неостывающая, ни с чем не считающаяся вера могла питать это упорство, эту длившуюся не один год подвижническую работу…
Но что значит своя война? Константин Симонов писал о "Сашке": "Это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности – солдатской". Не знаю, годится ли в первых двух случаях превосходная степень; легкой войны не бывает, и одному Богу, наверное, известно, где она была самой трудной – подо Ржевом или в Сталинграде, у Севастополя или на Невской Дубровке. Но что подо Ржевом в силу разных обстоятельств – и объективных, и субъективных, которые правдиво отражены в произведениях Кондратьева, – было невыносимо тяжко, об этом спору нет… В упоминавшемся Симоновым стихотворении Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом" эти ставшие гибельными места, эти многомесячные безрезультатные кровопролитные бои возникли не случайно. Рассказывая через четверть века после войны историю своего стихотворения, поэт связывал его рождение с тем тягостным чувством, которое возникло у него во время пребывания подо Ржевом осенью 1942 года: "Впечатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез – их подвозили вьючными лошадьми. Вернувшись в редакцию своей фронтовой "Красноармейской правды", которая располагалась в Москве, в помещении редакции "Гудка", я ничего не смог дать для газетной страницы, заполнив лишь несколько страничек дневника невеселыми записями". А в "Сашке" все это мы видим глазами человека, находившегося там, на передке, действительно "в самой трудной должности – солдатской".
И вот на что еще хочется сегодня обратить внимание, о чем невозможно было в полный голос сказать тогда, когда начали публиковаться повести и рассказы Кондратьева; впрочем, об этом и нынче не очень распространяются военные историки. Кондратьев в своей "ржевской" прозе изнутри показал то, что в сводках Совинформбюро небрежно-успокаивающе называлось "боями местного значения". А в этих боях без пользы и смысла было угроблено людей, наверное, не меньше, чем в самых крупных и знаменитых сражениях. Кто из фронтовиков не помнит появляющегося в дни вынужденного затишья, когда и людей почти не оставалось в ротах, и снаряды и гранаты были на счету, разъяренного поверяющего из какого-нибудь высокого штаба (на ротном уровне любой штаб воспринимался как высокий) с ничего хорошего не сулившей нашему брату окопнику фразой: "Что у вас тут – война кончилась? Вы что, мир с немцами заключили?" И тут пехоту для демонстрации столь желанной начальству боевой активности без артподготовки, да и вообще без всякой подготовки бросали в атаку – отбить какую-то высотку или деревеньку, хотя никакого продолжения этой операции не планировалось да и не могло быть. И даже если удавалось захватить село или высоту – чаще не удавалось, – непомерной ценой было за это плачено. Кажется, никому в нашей литературе не удалось так, как Кондратьеву, показать во всей своей страшной реальности проникший во все структуры армейского механизма сталинский принцип: людей не жалеть, потери в расчет не принимать.
Кондратьев показывает, какую тяжесть нес на своих плечах рядовой пехотинец, которому "каждый отделенный – начальник", для которого и КП батальона, находящийся в каком-нибудь километре-двух от окопов – рукой подать, – был уже тылом. И вроде не очень много он может со своим автоматом и парой гранат (против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и самолеты), а все-таки именно он и его товарищи – решающая сила армии, и только о той земле мы говорим, что она в наших руках, которую удерживают или взяли они, пехотинцы, – вот им и достается.
А в боях подо Ржевом хлебнули они горячего до слез. На что уж Сашка не избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к невзгодам ("был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытал"), но и ему невмоготу – все разом на них навалилось здесь, из последних сил держатся. И тяжко не только то, что которую неделю они на виду у смерти, каждую минуту она подстерегает – из первоначальных ста пятидесяти тринадцать человек осталось в их "битой-перебитой" роте, да это еще после того, как пополняли, наскребая кого только можно в полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он хорошо понимал, чтó ждет пехотинца: "Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два… Но не вечно же? А война впереди долгая".
Нет, устал так Сашка не от одной лишь постоянной смертельной опасности – не меньше от того, что все время на фронте впроголодь, что во всем нехватка (не только в харчах и куреве, солдатском обмундировании и сапогах, валенках, но и в боеприпасах), что и на переднем крае, и в армейском тылу порядка маловато и все их усилия и жертвы по-настоящему не окупаются. От этого на душе у Сашки камень, а чтобы давил поменьше, он старается убедить себя, что "по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили". Но все эти невеселые обстоятельства боев подо Ржевом (как и скудная жизнь в разоренных войной прифронтовых деревнях, которую наблюдает добирающийся до госпиталя Сашка, и суровая, затемненная, работающая до изнеможения Москва, где матери и жены со страхом ждут стука почтальона, не принесет ли "похоронку", – такой видит столицу герой "Отпуска по ранению") важны и интересны не сами по себе – ведь это не документальные очерки, а художественные произведения, – а тем, как в них проявляются характеры героев, обнаруживая скрытые, не дающие о себе знать в мирное время, в ординарных условиях душевные ресурсы.
Характер Сашки – главная удача Кондратьева. В жизни каждый из нас, наверное, не раз сталкивался с людьми, чем-то напоминающими кондратьевского героя, и если мы не сумели по-настоящему понять и оценить этот характер, то потому, что он еще не был открыт и объяснен искусством. Не зря Александр Твардовский говорил, что всякая действительность нуждается в подтверждении и закреплении средствами художественного выражения, а "до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы еще не совсем полна".
Не так часто даже талантливому художнику случается отыскать в действительности новый характер. Кондратьеву это удалось, его Сашка – открытие. И пусть не обманывают простота и ясность этого характера – он таит в себе и глубину, и сложность, и значительность, до того литературой не обнаруженные, не подтвержденные. И имеющаяся у Сашки литературная "родня" (скажем, толстовские солдаты) пусть тоже не вводит читателей в заблуждение: перед ними явление, которое традицией не покрывается и не исчерпывается. Кондратьев рисует характер человека из народа, сформированный своим временем и воплотивший черты своего поколения. Добавлю для точности: лучшие черты. Этим, кстати, объясняются и те близость и взаимопонимание, которые так естественно и легко возникают у Сашки, деревенского парня, и его ротного, бывшего студента, у Сашки и главного героя повести "Отпуск по ранению" лейтенанта Володьки, выросшего в интеллигентной московской семье. Многое в их общественных убеждениях и нравственных представлениях совпадает.
Сложилась довольно устойчивая, но вовсе не бесспорная традиция изображения коренного народного характера как воплощения органического, "нутряного" нравственного чувства, чуждого какой-либо рефлексии и анализа. Кондратьев ее не приемлет. Его Сашка – человек не только с обостренным нравственным чувством, но и с твердыми, осознанными убеждениями. И прежде всего он человек размышляющий, проницательно судящий и о происходящем вблизи него, и об общем положении дел. "На все, что тут (на фронте. – Л. Л.) делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он – не слепой же! – промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки…" Раздраженный упрямством Сашки, его неуступчивостью, добивающегося, невзирая ни на что, справедливости, ординарец комбата его увещевает: "Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье… Приказали – исполнил! А ты…" А Сашка так поступить – "наше дело телячье" – не хочет и не может. И то, что многое о жизни, о людях, о войне продумано Сашкой, и то, что поступает он не безотчетно и импульсивно, а взвешенно и с пониманием, и то, что чувствует он себя, как сказано в "Василии Теркине", "в ответе за Россию, за народ и за все на свете", не раз обнаруживается в повествовании. Пытливый ум и простодушие, жизнестойкость и деятельная доброта, скромность и чувство собственного достоинства – все это соединилось, сплавилось в цельном характере Сашки.
Повести и рассказы "ржевского" цикла Кондратьева как бы прорастают друг в друга. Каждая вещь вполне самостоятельна, но между ними существуют и внутренние, скрытые и вполне очевидные сюжетные связи: один и тот же бой возникает в них то как происходящее на наших глазах, то в воспоминаниях разных персонажей, некоторые герои переходят из одного произведения в другое.
Художественное пространство в "ржевском" цикле невелико и кажется замкнутым: редеющий в безуспешных атаках и от постоянных, как по расписанию, немецких обстрелов батальон; три расположенные неподалеку деревеньки – Паново, Усово, Овсянниково, в которых прочно закрепились немцы; овраг, маленькие рощицы и поле, за которым вражеская оборона, – поле, насквозь простреливаемое пулеметным и минометным огнем.
Ничем это овсянниковское поле вроде бы не примечательно, поле как поле, наверное, у каждой деревни в тех краях можно отыскать такое. Но для героев Кондратьева все главное в их жизни совершается здесь, и многим, очень многим из них не суждено его перейти – останутся они тут навсегда. А тем, кому повезет, кто вернется отсюда живым, запомнится оно на всю жизнь во всех подробностях – каждая ложбинка, каждый пригорок, каждая тропка. Все было тут не исхожено даже, а исползано – не очень-то походишь при губительном огне. Для тех, кто здесь воевал, даже самое малое исполнено немалого, жизненно важного значения: и жалкие шалаши, служившие зимой хоть каким-то укрытием от ледяного, пробирающего до костей ветра; и мелкие окопчики – поглубже вырыть сил не хватало, – весной наполовину залитые талой водой; и последняя щепоть махорки, смешанной с крошками; и взрыватели от ручных гранат, которые было принято носить в левом кармане гимнастерки – если сюда угодит пуля или осколок, не важно, что они взорвутся, все равно хана; и валенки, которые никак не высушить; и полкотелка жидкой пшенной каши в день на двоих; и вдруг замедлявшееся, останавливавшееся во время атаки время – "полчаса только, а вроде бы жизнь целая прошла".
Тяжкий период войны изображает Кондратьев: мы учимся воевать, трудно дается нам эта учеба, дорогой ценой за нее расплачиваемся. Постоянный – из повести в повесть, из рассказа в рассказ – мотив у него: уметь воевать – это не только, зажав, преодолев страх, пойти под пули, не только не потерять самообладания в минуты смертельной опасности. Это еще полдела – не трусить. Труднее научиться другому: думать в бою и над тем, чтобы потерь – хотя они, конечно, неизбежны на войне – все-таки было поменьше, чтобы зря и свою голову не подставлять, и подчиненных не класть. Тогда, на первых порах, это не очень-то получалось…
Против нас была очень сильная армия – хорошо вооруженная, вымуштрованная, имевшая большой боевой опыт, уверенная в своей непобедимости. Чтобы ее разбить, надо было добиться превосходства в вооружении и технике, превзойти ее воинским умением, сокрушить ее наступательный дух. Но и это еще не все. Против нас была армия, отличавшаяся необычайной жестокостью и бесчеловечностью, не признававшая никаких нравственных преград в обращении и с противником, и с мирным населением в захваченных областях. Однако жестокость не только устрашает, как полагали гитлеровцы, но и рождает ненависть. Конечно, гитлеровские злодеяния ее накаляли. Но ненависть даже к такому врагу, как фашистские захватчики, не была, не могла стать слепой и безграничной, ей устанавливали пределы те гуманистические ценности, которые мы защищали. Поэтому она не становилась разрушительной, не растлевала, не сеяла неуважение к человеческой жизни. Герои Кондратьева не могли платить фашистам той же монетой не потому, что захватчики этого не заслуживали, а потому, что это было для них невозможно: они утратили бы чувство безусловной правоты, абсолютного нравственного превосходства над фашистами, благодаря которому смогли вынести и невыносимое, сохранить и в самых отчаянных положениях веру в победу. Когда у Сашки спросили, как же он решился не выполнить приказ комбата – не стал расстреливать пленного, разве не понимал, чем это ему грозило, – он ответил просто: "Люди же мы, а не фашисты…" И простые слова его исполнены глубочайшего смысла: они говорят о неодолимости человечности, которая была тем рубежом, который фашисты взять не смогли, именно здесь они потерпели поражение.
"Ржевская" проза Кондратьева, в которой с такой скрупулезной и беспощадной точностью, без малейшей ретуши нарисован жуткий лик, вернее оскал, войны: грязь, вши, голодуха, кровь, трупы, – проникнута верой в торжество свободы и человечности. И эта вера, этот свет не позднего, ностальгического происхождения, они оттуда – из нашей войны, из тех тяжких лет, которые справедливо называют и свинцовыми, и пороховыми, и кровавыми. Так было… И для тех, кто прошел этот ад, годы на фронте остались самыми главными в жизни, их звездным часом. Герой кондратьевского рассказа "Знаменательная дата" прожил после войны благополучную и вполне достойную жизнь. Он не может пожаловаться на судьбу: доволен своей работой, на заводе его ценят и уважают, у него хорошая семья. "Но все равно, – признается он, – тоска иногда забирает по тем денькам. Понимаете, по-другому тогда все было". Очень непросто объяснить – и ему, и мне, – что же в войну было по-другому, о чем эта тоска. Но суть герой Кондратьева, кажется, ухватил верно: "На войне я был до необходимости необходим". Наверное, ничего для человека не может быть важнее этого чувства…
В конце войны Семен Гудзенко – первый из возникавшей тогда плеяды поэтов-фронтовиков – написал стихотворение "Мое поколение". От имени фронтовиков-окопников – вчерашних школьников, недоучившихся студентов – обращается к читателям поэт. Это поколение Сашки, лейтенанта Володьки и самого Вячеслава Кондратьева, давшего им жизнь в литературе. В этом стихотворении есть такие строки:
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,тот поймет эту правду, – она к нам в окопы и щелиприходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.Пусть живые запомнят, и пусть поколения знаютэту взятую с боем суровую правду солдат.И твои костыли, и смертельная рана сквозная,и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, —это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,подымались в атаку и рвали над Бугом мосты…Долгие годы у нас не больно жаловали эту добытую с боем окопную правду. С каким яростным энтузиазмом науськанные высоким армейским начальством литературные стервятники клевали ее – это, мол, "очернительство", "дегероизация", да и что вообще мог видеть солдат из окопа, кому интересна, кому нужна его приземленная правда? А это была правда тех, кто на своих плечах вынес главную тяжесть жестокой и великой войны, заплатив за победу тысячами тысяч юных жизней. Окопная правда – это народная память о пережитом на тех смертельных рубежах, где между нами и врагом была лишь ничейная земля. И если молодые поколения, к которым обращается в своем стихотворении Гудзенко, действительно захотят знать ее, эту горькую и высокую правду, – пусть читают "ржевскую" прозу Вячеслава Кондратьева.
Л. Лазарев
Сашка
Всем воевавшим подо
Ржевом —
живым и мертвым —
посвящена эта повесть
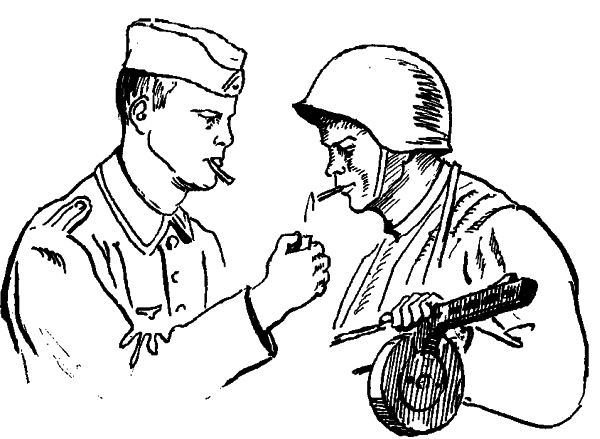

К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке на ночной пост. У края рощи прилеплен был к ели редкий шалашик для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда ноги занемеют, но наблюдать надо было безотрывно.