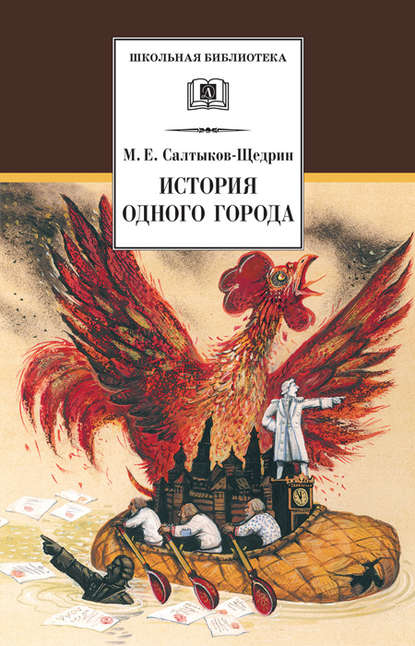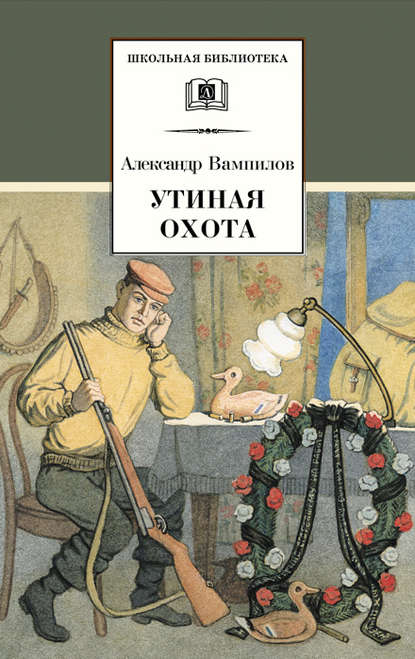Полная версия
Рассказы
Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недосягаемым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним; а он спокойно принимает ее заботливость как должное и говорит с нею, точно отец с маленькой дочерью.
Иногда он очень страдает. Рана его горит, лихорадка трясет его… Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма кажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди – и все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромною массою людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях грудами мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел.
Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа.
Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике, и проснулся, разбуженный толчками в плечо.
– Вставайте, вставайте! – говорила Марья Петровна.
Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.
– Пятна, новые пятна! – разобрал я наконец.
– Какие пятна, где пятна?
– Ах, Боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались. Я уже послала за доктором.
– Да, может быть, и пустое, – сказал я с равнодушием только что разбуженного человека.
– Какое пустое, посмотрите сами!
Кузьма спал, раскинувшись, тяжелым и беспокойным сном; он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Это гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хоть я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть.
Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени, и молча смотрела на меня отчаянными глазами.
– Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна. Придет доктор, посмотрит; может быть, еще не все кончено. Может быть, еще выручим его.
– Нет, не выручим, умрет, – шептала она.
– Ну, не выручим, умрет, – отвечал я ей так же тихо, – для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя же так убиваться: ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи.
– Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни? И сама не могу объяснить себе, отчего это. Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня, а умрет он – сердце у меня разорвется. Все мне будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердца, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что, люби я его – жили бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет: виновата, виновата, виновата…

Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, чтó говорит Марья Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветило солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь и страх смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Марья Петровна смотрела на него несколько мгновений как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклонясь над бедным полутрупом, она поцеловала его.
Тогда он открыл глаза.
– Боже мой, как не хочется умирать! – проговорил он.
И в комнате вдруг раздались странные тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим.
Я ушел из комнаты. Я сам чуть было не разревелся.
Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты, – а там? Кузьма, вместе с страхом смерти и физическими страданиями, испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то! Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют или наедут пушки и раздавят, как червяка…
– Я вам скажу откровенно, – говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши, – что в подобных случаях, при госпитальном лечении, умирают девяносто девять из ста. Я надеюсь только на тщательный уход, на прекрасное расположение духа больного и на его горячее желание выздороветь.
– Всякий больной желает выздороветь, доктор.
– Конечно, но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства, – сказал доктор с улыбочкой. – Итак, сегодня вечером мы сделаем операцию – прорежем ему новое отверстие, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водою, и будем надеяться.
Он пожал мне руку, запахнул свою медвежью шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами.
– Может быть, угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделать операцию? – обратился он к Львову.
Львов кивнул головою, засучил рукава и с серьезно-мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил в рану какой-то удивительный инструмент с трехгранным острием, видел, как острие пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и защелкал зубами от боли.
– Ну, не бабничай, – угрюмо говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку.
– Очень больно? – ласково спросила Марья Петровна.
– Не так больно, голубушка, а ослабел я, измучился.
Положили повязки, дали Кузьме вина, и он успокоился. Доктор уехал, Львов ушел в свою комнату заниматься, а мы с Марьей Петровной стали приводить комнату в порядок.
– Поправьте одеяло, – проговорил Кузьма ровным, беззвучным голосом. – Дует.
Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственным указаниям, которые он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося получше подсунуть одеяло. Я старался сделать это как можно лучше, но, несмотря на все мое усердие, Кузьме все-таки дуло то в бок, то в ноги.
– Неумелый ты какой, – тихо брюзжал он, – опять в спину дует. Пусть она.
Он взглянул на Марью Петровну, и мне стало очень ясно, почему я не сумел угодить ему.
Марья Петровна поставила склянку с лекарством, которую держала в руках, и подошла к постели.
– Поправить?
– Поправьте… Вот хорошо… тепло!..
Он смотрел на нее, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски-счастливым выражением на измученном лице заснул.
– Вы пойдете домой? – спросила Марья Петровна.
– Нет, я выспался отлично и могу сидеть; а впрочем, если я не нужен, то уйду.
– Не ходите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти так горько, так тяжело!
– Будьте тверды, Марья Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются.
– Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердия. Все-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком.
– А вы все-таки едете?
– Еду, конечно. Выздоровеет он или умрет – все равно поеду. Я уже сжилась с этой мыслью и не могу отказаться от нее. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших, светлых днях.
– Ах, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне.
– Отчего? Работать буду – вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется.
– Принять участие! Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы ли говорите мне это!
– Я говорю. Кто вам сказал, что я люблю войну? Только… как бы это вам рассказать? Война – зло; и вы, и я, и очень многие такого мнения; но ведь она неизбежна; любите вы ее или не любите, все равно она будет, и если не пойдете драться вы, возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вот что: по-моему, война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится.

Я молчал. Слова Марьи Петровны яснее выразили мое смутное отвращение к уклонению от войны. Я сам чувствовал то, что она чувствует и думает, только думал иначе.
– Вот вы, кажется, всё думаете, как бы постараться остаться здесь, – продолжала она, – если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится.
– Что же делать, Марья Петровна! Разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?
– Не вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь в Петербурге – живой, здоровый, счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну. Я не беру на себя решать – может быть, это и извинительно, но мне не нравится, нет.
Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.
Наконец вот оно. Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения… ружейным приемам. У меня и теперь раздается в ушах:
– Смиррно!.. Ряды вздво-ой! Слушай, на кра-аул!
И я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьем. И через несколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваиванья рядов, меня назначат в партию, нас посадят в вагоны, повезут, распределят по полкам, поставят на места, оставшиеся после убитых…
Ну, да это все равно. Все кончено; теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению; теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выть, когда больно…
Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которое отличается тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они, до распределения по полкам, в огромном сарае, бывшем манеже: его разделили полатями на два этажа, натащили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться как знают. На проходе, идущем посредине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков: настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие неуклюжие хохлы, в новых свитках и смушковых шапках, лежали тесной кучкой и молчали. Их было человек десять.
– Здравствуйте, братцы.
– Здравствуйте.
– Давно из дому?
– Та вже двi недiли. А вы яки-таки будете? – спросил меня один из них.
Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились.
– Скучно? – спросил я.
– Так як же не скучно! Дуже моторно. Коли б ще годували, а то така страва, що и Боже мiй!
– Куда ж вас теперь?
– А хто ёго зна! Кажуть, пид турку…
– А хочется на войну?
– Чого я там не бачив?
Я начал расспрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов и вскоре после которой молодого забрали в солдаты, о судебном приставе, «сто чортив ему конних у горло», о том, что мало становится земли, и поэтому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек идти на Амур… Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарах, о деле, за которое шел умирать.
Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки и, когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил:
– Этого самого турку бить следует.
– Следует? – спросил я, невольно улыбнувшись уверенности решения.
– Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно! Ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смирно… был бы я теперь дома, при родителях, в лучшем виде. А то он бунтует, а нам огорчение. Это вы будьте спокойны, верно я говорю. Папиросочку пожалуйте, барин! – вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к козырьку.
Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошел домой, так как наступило время, свободное от службы.
«Он бунтует, а нам огорчение», – звенел у меня в ушах пьяный голос. Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь.
У Львовых тоска, уныние. Кузьма очень плох, хотя рана его и очистилась: страшный жар, бред, стоны. Брат и сестра не отходили от него все дни, пока я был занят поступлением на службу и ученьями. Теперь, когда они знают, что я отправляюсь, сестра стала еще грустнее, а брат еще угрюмее.
– В форме уже! – проворчал он, когда я поздоровался с ним в комнате, закуренной и заваленной книгами. – Эх вы, люди, люди…
– Что же мы за люди, Василий Петрович?
– Заниматься вы мне не даете – вот что! И так времени совсем нет, кончить курса не дадут, пошлют на войну; и так многого узнать не придется, а тут еще вы с Кузьмой.
– Ну, положим, Кузьма умирает, а я-то что?
– Да вы разве не умираете? Не убьют вас – с ума сойдете или пулю в лоб пустите. Разве я не знаю вас, и разве не было примеров?
– Каких примеров? Разве вы знаете что-нибудь подобное? Расскажите, Василий Петрович!
– Отстаньте вы, очень нужно вас еще пуще разогорчать! Вредно вам. И я ничего не знаю, это я так сказал.
Но я пристал к нему, и он рассказал мне свой «пример».
– Мне один раненый офицер-артиллерист рассказывал. Вышли они только что из Кишинева, в апреле, тотчас после объявления войны. Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась одна грязь, такая, что орудия и повозки уходили в нее по оси. До того дошло, что лошади не берут; прицепили канаты, поехали на людях. На втором переходе дорога ужасная: на семнадцати верстах двенадцать гор, а между ними все топь. Въехали и стали. Дождь хлещет, на теле ни нитки сухой, проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянет-тянет человек и упадет лицом в грязь без памяти. Наконец добрались до такой трясины, что двинуться вперед было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! «Что тут было, – офицер мой говорит, – вспоминать страшно!» Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек. Плачет. «Не могу, говорит, я вынести этого зрелища; уеду вперед». Уехал. Нарубили солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и наконец сдвинулись с места. Вывезли батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит… Вот вам пример. Не мог человек вида мучений вынести, так где ж вам самые-то муки одолеть?
– Василий Петрович, да не легче ли самому муки нести, чем казниться, как этот доктор?
– Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих в дышло запрягут.
– Совесть мучить не будет, Василий Петрович.
– Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы с сестрой об этом поговорите: она насчет этих тонкостей дока. «Анну Каренину» ли по косточкам разобрать или о Достоевском поговорить – все может; а уж эта штука в каком-нибудь романе, наверно, разобрана. Прощайте, философ!
Он добродушно рассмеялся своей шутке и протянул мне руку.
– Вы куда?
– На Выборгскую, в клинику.
Я вошел в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидевшая около постели. Он еще не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его.
– Тебя здесь оставят или ушлют в армию? – спросил он.
– Отправят; разве ты не знаешь?
Он молчал.
– Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мало помню и соображаю… Что ж, поезжай. Нужно.
– И ты, Кузьма Фомич!
– Что «и я»? Разве не правда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай! Нужнее тебя есть люди, работящее тебя, и те идут… Поправь мне подушку… вот так.
Он говорил тихо и раздраженно, как будто мстя кому-то за свою болезнь.
– Все это верно, Кузя, да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, я бы остался здесь без дальних разговоров: устроить это нетрудно. Я не делаю этого; меня требуют, и я иду. Но пусть по крайней мере мне не мешают иметь об этом свое собственное мнение.
Кузьма лежал неподвижно, устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно повернул ко мне голову.
– Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее, – проговорил он. – Я измучен и раздражен и, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив; должно быть, скоро помирать пора.
– Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживает, все идет к лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить следует.
Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне две недели тому назад: «Нет, не выздоровеет, умрет».
– А что, если бы в самом деле ожить? Хорошо бы было! – слабо улыбнувшись, сказал Кузьма. – Тебя ушлют драться, и мы с Марьей Петровной поедем: она милосердной сестрицей, а я врачом. И буду я около тебя, раненного, возиться, как ты теперь около меня.
– Будет болтать, Кузьма Фомич, – сказала Марья Петровна, – вредно вам много говорить, да и пора начинать ваше мучение.
Он отдался в наше распоряжение; мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестевшую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат, я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей.
Я не пишу в эту книжку ни слова о том, что делается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встречает и провожает меня мать, какое-то тяжелое молчание, сопровождающее мое присутствие за общим столом, предупредительная доброта братьев и сестер – все это тяжело видеть и слышать, а писать об этом еще тяжелее. Когда подумаешь, что через неделю придется лишиться всего самого дорогого в мире, слезы подступают под горло…
Вот наконец и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома; и я сижу в своей комнате один, в последний раз! В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз разошлась семья, в последний раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончать ее, ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты,
… ты, палец от ноги?…
Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть; завтра нужно встать очень рано.
Я просил, чтобы меня никто не провожал на железную дорогу. Дальние проводы – лишние слезы. Но когда я уже сидел в вагоне, набитом людьми, я ощутил такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдал бы все на свете, чтоб хоть несколько минут провести с кем-нибудь из близких. Наконец настал назначенный час, но поезд не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, час, полтора, а он все еще стоял. В эти полтора часа я успел бы побывать дома… Может быть, кто-нибудь не утерпит и приедет… Нет, ведь все думают, что поезд уже ушел; никто не станет рассчитывать на опоздание. А все-таки, может быть… И я смотрел в ту сторону, откуда могли ко мне прийти. Никогда время не тянулось так долго.
Резкие звуки рожка, игравшего сбор, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, вылезшие из вагонов и толпившиеся на платформе, торопились усаживаться. Сейчас тронется поезд, и я никого не увижу.
Но я увидел. Львовы, брат и сестра, почти бежали к вагону, и я ужасно обрадовался им. Не помню, что я говорил им, не помню, что они мне говорили, кроме одной только фразы: «Кузьма умер».
На этой фразе кончаются заметки в записной книжке. Широкое снежное поле. Белые холмы окружают его, на них белые же, заиндевевшие деревья. Небо пасмурно, низко; в воздухе чувствуется оттепель. Трещат ружья, слышатся частые удары пушечных выстрелов; дым покрывает один из холмов и медленно сползает с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда вглядишься в нее пристальнее, то видишь, что она состоит из отдельных черных точек. Многие из этих точек уже неподвижны, но другие все двигаются и двигаются вперед, хотя им еще далеко до цели, видимой только по массе дыма, несущегося с нее, и хотя их число с каждым мгновением становится все меньше и меньше.
Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив ружья в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз.
– Пошли, братцы, пошли… Эх, не дойдут!
– И чего это только нас держат? С подмогой живо бы взяли.
– Жизнь тебе надоела, что ли? – угрюмо сказал пожилой солдат из «билетных». – Лежи, коли положили, да благодари Бога, что цел.
– Да я, дяденька, цел буду, не сомневайтесь, – отвечал молодой солдат с веселым лицом. – Я в четырех делах был, хоть бы что! Оно спервоначалу только боязно, а потом – ни Боже мой! Вот барину нашему впервой, так он небось у Бога прощенья просит. Барин, а барин?
– Чего тебе? – отозвался худощавый солдат с черной бородкой, лежавший возле.
– Вы, барин, глядите веселее!
– Да я, голубчик, и так не скучаю.
– Вы меня держитесь, ежели что. Уж я бывал, знаю. Ну, да у нас барин молодец, не побегит. А то был такой до вас вольноопределяющий, так тот, как пошли мы, как зачали пули летать, бросил он и сумки и ружье; побег, а пуля ему вдогонку, да в спину. Так нельзя, потому – присяга.
– Не бойся, не побегу… – тихо отвечал «барин». – От пули не убежишь.
– Известно, где от ей убежать! Она шельма… Батюшки светы! Никак, наши-то стали!
Черная масса остановилась и задымилась выстрелами.
– Ну, палить стали, сейчас назад… Нет, вперед пошли. Выручай, Мать Пресвятая Богородица! Ну-ка еще, ну, ну… Эка раненых-то валится, Господи! И не подбирают.
– Пуля! Пуля! – раздался вокруг говор.
В воздухе действительно что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетевшая через резервы. Вслед за ней полетела другая, третья. Батальон оживился.
– Носилки! – закричал кто-то.
Шальная пуля сделала свое дело. Четверо солдат с носилками бросились к раненому. Вдруг на одном из холмов, в стороне от пункта, на который велась атака, показались маленькие фигурки людей и лошадей, и тотчас же оттуда вылетел круглый и плотный клуб дыма, белого как снег.
– В нас, подлец, метит! – закричал веселый солдат.
Завизжала и заскрежетала граната, раздался выстрел. Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что «барин» лежит рядом с ним ничком, раскинув руки и неестественно изогнув шею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие.
1879
Встреча
На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход («вероятно, английский», – подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не видавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке; товарищи шумели и перебивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь.