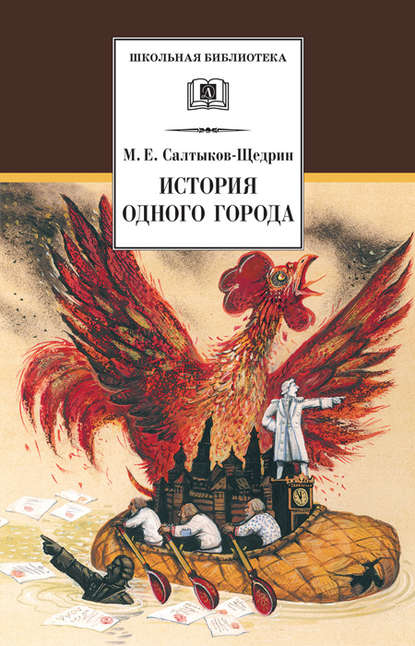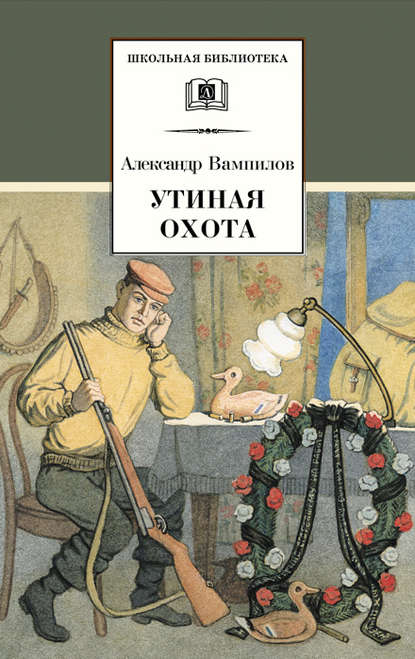Полная версия
Красное вино Победы (сборник)
– А у меня только два, – не сразу ответил Сашка. – Осенью в третий буду ходить. Три будет. Я в сельмаге книжку купил про трактор. Когда коней пасу – картинки гляжу. А слова не понимаю.
Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился.
– А ты пока сказки читай, стихи, – посоветовала Варька. – Тогда и про тракторы поймешь.
– Я читаю…
Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку.
– Вот…
Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название, – одним только беглым взглядом на стройные, точеные колонны стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звучно начинала петь для нее одной та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в сельмаге.
– Эту читать легко. – Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывавшими страницы. – Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.
– Александр Пушкин, – поправила Варька.
– Н-нет! – Сашка упрямо тряхнул кудрями. – Сандро! Как я. Я Сандро, и он Сандро. Цыган тоже. Тут есть его портрет. Я глядел – цыган.
Варька вовсе не собиралась уступать Пушкина, но спорить не захотела. Она была сегодня добрая и не стала разрушать Сашкину наивную и гордую веру. Пусть думает. Она только сказала:
– Это тоже Пушкин написал…
И негромко, бережно отставляя друг от друга слова, сама завораживаясь торжественностью вещих стихов, стала читать «Памятник».
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,И назовет меня всяк сущий в ней язык,И гордый внук славян, и финн, и ныне дикойТунгус, и друг степей калмык.Пушкин – он для всех, – сказала Варька, дочитав стихотворение до конца.
Сашка молчал, задумавшись.
В двух шагах от нее по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глядела на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловатой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела, почти касаясь, луна, и шерсть на крупе голубовато блестела горным слежалым снегом.
– Давай покатаемся, – сказала, радостно замирая.
– Ты что?
– Давай, Саш! Смотри, как хорошо!
Сашка промолчал.
– Ну дай мне лошадь. Я одна поеду.
– Ты что, дурочка?
– Ничего ты не понимаешь!
Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, кошачьим прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись, животом на спину. Испуганный конь шарахнулся и понес прочь в тяжелом галопе.
– Догоня-я-ай! – донесся ее азартно-радостный голос.
Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как проносились мимо лунно-серые купы лозняков, тускло и бездонно мерцала вода в низинах и как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чабрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. Сашка! Она почти наверняка знала, что он пустился в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Она только не знала, какой скачет за нею Сашка: то ли обозленный ее своеволием, то ли задетый ее насмешливым вызовом… Пронизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собою живую доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня и, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями стариц. Он нес ее к вольнице покосов в неоглядной россыпи темных стогов.
Оглянувшись, Варька с жутким замиранием приметила позади себя на залитой светом луговине черное пятно всадника. Она поняла всю невыгодность белой масти своего коня и, доскакав до первых выступавших на пути лозняков, обогнула кусты и свернула к старице. Мокрые ветки захлестали ее по ногам. Она подобрала ноги, собралась в комок на самом крупе. Под копытами захлюпала вязкая грязь. Дремавшая на черной воде луна лениво закачалась и, уродливо растягиваясь, разорвалась на масляно-золотые ломти. Крепко ударил из-под копыт запах застоялой болотной прели. Из темных прогалов в лозняках с сухим треском вылетела какая-то птица. Мелькнув белым, она исчезла за выступом противоположного берега. Конь вздрогнул всей кожей, прянул в сторону. «Не бойся, не бойся, родненький!» – приговаривала Варька, сама замирая и не дыша, и похлопала лошадь по вздрагивавшей лопатке. Она направила коня на ту сторону и, почти повиснув на его гриве, выбралась на обрывистый берег.
Едва переводя дух и приглядевшись, Варька снова увидела Сашку. Он разгадал ее уловку и тоже успел где-то перебраться через старицу. Она снова вскачь пустила лошадь, хотела было проскочить к стогам, но Сашка, заметив ее белое мельканье, стал забирать левее, тесня ее в открытые луга. И тогда, тоненько, по-щенячьи скуля, то ли всхлипывая, то ли захлебываясь загнанным смехом, сама не замечая этого смеха, она поскакала напрямую. Встречный ветер взбил сарафан и до трусов оголил ее ноги. Где-то уже давно потерялась гребенка, и волосы били по лицу и набивались в рот. Она скакала теперь к трактору и в прорези конских ушей, как на мушке прицела, старалась удержать плясавший от скачки светлячок тракторной фары. Оглядываясь, она видела из-за плеча черную глыбу всадника, с молчаливым упорством преследовавшего ее.
Сашка нагнал ее у самого просяного поля.
Варька услыхала за спиной топот и тяжелый, отрывистый всхрап Сашкиного вороного. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась.
– Ну?.. Ну?.. Догнал? – задыхаясь и давясь словами, спрашивал Сашка. Он втащил ее на свою лошадь и, больно в горячности обхватив свободной рукой шею, придавил голову к груди. – Будешь еще? Будешь?
– Пусти! Сумасшедший!
Сашка прерывисто дышал ей в шею, и она слышала тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем.
– Да ты… что?! – завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.
– А зачем убегала? Зачем? – горячим, обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. – Думала, не догоню, да?
Варька, полыхая стыдом, забилась в его руках и угрем скользнула с лошади.
– Потому что цыган, да? – глухо пробормотал Сашка.
– Потому что… дурак!
Не оглядываясь, Варька рысцой побежала к черневшей впереди пахоте. Она бежала, студеня росою ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками. «Чего ж это он? – взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. – Чего ж я-то?..»
Она выбежала к просяному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающее чувство близости человека. После ледяной росы вспаханное поле казалось теплым, и она пошла по крайней борозде, отогревая в мягкой рассыпчатой земле окоченевшие ступни.
На одном из поворотов луч трактора внезапно выхватил из темноты лошадей, и Варька тут же увидела Сашку. Он сидел на бочке из-под горючего, брошенной на закраине поля, и держал в поводу обоих коней – белого и черного. Но вот трактор снова чуть повернул, и видение исчезло.
Варька, нагнув голову, торопко шла в ярком пучке света мимо этого места. Она знала, что Сашка ее видит, и ей было не по себе идти вот так, у него на виду. Хмельно путались мысли, почему-то не шли, деревенели ноги, и губы все еще обожженно и стыдливо горели и казались недвижными и чужими.
Наконец она выбралась из борозды и, набредя на знакомую тропку, побежала к озеру. Она бежала, чтобы согреться, сначала неходко, вялой трусцой, но потом все прибавляла и прибавляла ходу. Она бежала, не останавливаясь и не передыхая, глубоко и жадно дыша тугим студеным ветром, зажигаясь горячей радостью бега.
Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька, еще издали выглядывая Емельяна, прокралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшая за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и прошла к загону.
– Ну, как вы тут без меня, мои родненькие? – ласково заговорила она, перегнувшись через прясло. – Сейчас я вам каши запарю. Просяной. Это вам Сашка привез. Три мешка. Знаете Сашку?
«Сказать Ленке или не сказать?» – уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо, одной только себе, прошептала:
– Низачтошеньки!
Утки понимающе кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.
Шуба
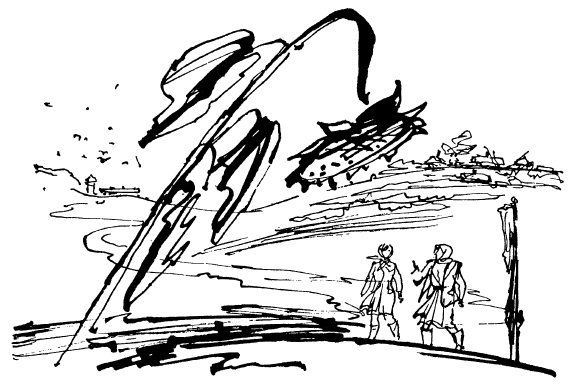
Засыревший большак, исполосованный колесами, выбирая, где поположе, широкой дугой поднимается на косогор. На дороге и пашне еще видны следы недавней бессонно-горячей работы, когда из земли выбиралось и выдиралось все, что она успела и сумела родить людям за недолгое лето. То попадалась в колее раздавленная колесами свекла, то звено от тракторной гусеницы или еще какая неведомая железяка, оброненная впопыхах машиной, то в стороне, среди черного, белесые скирды молодой соломы. А у обочины торчал случайно не задетый плугом, сгорбившийся, как старик, сухой подсолнух. Ветер шуршал лохмотьями его листьев, а он все кивал и кланялся путникам непокрытой растрепанной головой.
Страда отшумела, и теперь по обе стороны большака чернела по-осеннему засмиревшая земля, комковато и неловко улегшаяся на покой.
Дуняшка и Пелагея, поспешая, шли обочь дороги. Опустевшие поля не вызывали у них никаких размышлений: они здесь жили, и все было привычным и незаметным, как этот осенний полевой воздух, которым дышали. Они шагали бок о бок и оживленно болтали о всяких своих житейских делах.
Пелагея, еще шустрая, сухощавая баба, шла налегке в сером клетчатом платке и в Степкином ватном пиджачке с жестяными перекрещенными молотками в петлицах, – Степка учился в школе механизации, на воскресенье приехал домой, и Пелагея выпросила у него пиджак съездить в город. Из-под пиджака высовывался белый, оборчатый, надетый по торжественному случаю передник, который встречный ветер то поддувал пузырями, то запихивал между худых Пелагеиных колен. Но она не одергивала, а так и шла, шлепая о тощие икры широкими голенищами резиновых сапог.
Дуняшка старалась не отставать. Она хоть и была повыше матери, но подростковое пальтишко с короткими рукавами узило ее в плечах и как-то казало и ниже ростом и моложавее, скрадывая года два – именно те, в течение которых Дуняшка успела повзрослеть, похорошеть и уже кое-кому приглянуться.
Увлеченные разговором, они все прибавляли и прибавляли ходу, пока, запыхавшись, Пелагея уже не могла ничего связно сказать, кроме отдельных, перебитых частым дыханием слов, после чего она останавливалась и удивленно оглядывалась на деревню, говоря:
– Чтой-то мы… так… бегём? Гляди, уже где… дворы. Небось… не на пожар.
Но, передохнув минутку, они снова поворачивались и шли скоро и торопко. Такая уж деревенская дорога: сызмальства не приучены ходить по ней вразвалочку. Всегда у бабы в конце этой дороги какое-то спешное дело: детишки ли, квашня ли с тестом, поросенок ли некормленый, – если идти с поля, а если в поле, то и того пуще всяких дел, особенно когда подоспеет страда. Как ни богат колхоз техникой – и комбайны, и культиваторы, и сеялки-веялки всякие, и тракторы по восемьдесят лошадиных сил, – и все же еще столько прорех, что каждый умный председатель, если хочет, чтобы дело шло без сучка без задоринки, непременно бросит клич: «А ну, бабоньки, подсобим! – и добавит для подбодрения: – Техника техникой, а все же бабы в колхозе – большая сила!» И бабы наваливаются. Мужики ездят на тракторе взад и вперед по свекловищу, дергают рычаги, руль крутят, выковыривают культиватором бураки. А бабы, будто галки за плугом, с галдецой, коли еще не притомились, или уже молча к закату дня, все собирают и собирают свеклу в корзины и подолы и таскают, и таскают ее, в комьях тяжелой земли, по перепаханному полю в кучи. А после, собравшись в кружок, вперемежку с пустыми разговорами и пересудами незаметно да и переворошат опять многие тонны бурака, обобьют от земли, отсекут ботву, обрежут хвосты и сложат в кучи. И лишь когда завечереет и не разобрать, то ли это свекла, то ли просто грудка земли, поднимаются пестрой стаей и бегут, бегут полевой дорогой, на другом конце которой ждут их другие неотложные домашние заботы.
А на току разве обойтись без нее? Или на сенокосе? На ферме? Да где ты без нее обойдешься? Нехитрая машина – баба, простая в обращении, на еду непривередливая, не пьет, как мужик, и не кочевряжится при расчете. Мужик за кручение руля на тракторе полтора трудодня берет, хоть и со сменщиком работает, она без всякой смены и на половинную долю согласна, потому как понимает: руль с умом крутить надо. А где бабе ума взять? Ум-то весь мужикам достался.
Но особенно поспешает она, если, вырвавшись от дел, соберется в город. Не часто это случается, и поэтому побывать в городе – чуть ли не праздник. Потолкаться в магазинах, посмотреть на ситцы, а коли есть деньги, развернуть их колковатую, нетронутую, радостно-пеструю свежесть – ромашками да незабудками, – повыбирать и поволноваться, прикидывая в уме, как это подойдет подросшей девке, а то и себе. Себе-то ведь тоже хочется!
А платки какие! За шелковый и взяться страшно: к рукам липнет. Руки-то шершавые, а материя что твой дым – дунул, и полетела! И обутка всякая, и гребенки. Конфет да пряников – аж в глазах рябит. Целый день ошалевшая, радостно-увлеченная, ходит она по лавкам да по лоткам, не поест, не присядет, потому как нет для нее ничего волнительнее, чем разные товары да обновы.
Купит ли картуз мальчонке или мужику – не прячет его в корзину, а наденет поверх платка и несет всю дорогу, чтобы не помялся часом, а больше – чтоб люди видели обнову. Картуз-то вся цена два рубля, а несет она его так, будто невесть что купила. А уж если ситчику или штапелю на платье, то всю дорогу останавливается, заглядывает в корзину, щупает, шепчет что-то над нею и вдруг зардеется смущенно, если застанут невзначай за этим таинством знакомые…
– Да вот обнову купила, – скажет, посерьезнев. – И не знаю, то ли угодила, то ли нет? – Но тут же сама и порешит: – Сошьется – сносится. Не барыня.
А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться: Дуняшке идут пальто покупать. Не какое-нибудь простенькое. А хорошее, настоящее зимнее. Чтоб с меховым воротником, на подкладке шелковой, да чтоб сукно было доброе. Не часто приходится такие дорогие обновы справлять. Себе-то уж и не помнит, когда покупала. С воротником – так и вовсе. Почитай, полсотни лет прожила, а ни разу мехового воротника не носила. Да их как-то раньше и не было, окромя овчинных. Платок накинула – вот и весь воротник. Теперь-то всякие пошли. Под разного зверя. Во всем их роду Дуняшка первая наденет. Подружки уже посправляли, а она до сих пор в этом куцем бегает. Против людей неловко. Да и то сказать – невеста уже. Третьего дня вышла Пелагея ввечеру корову подоить, глянула через плетень, а Дуняшка с парнем у калитки стоит. Это ничего, что с парнем. Уже самостоятельная. Нынче осенью тыщу двести в колхозе заработала. Пятьсот рублей уже разошлись. Поросеночка купили, сена копенку, да и так, по мелочам, потратилось. Если не купить – разойдутся. Тогда до будущего года ждать. А то уж одета будет.
Потому и частила сапогами Пелагея, будто сваха, озабоченная и взвинченная предстоящим нешуточным делом. Где-то там, как в сказке, за горами, за долами, невесть в каком магазине, в каком универмаге, неведомо еще какое – синее, черное или коричневое, а может, и еще краше, висит то, единственное, с меховым воротником, которое предстоит Пелагее разыскать, выбрать, да не прогадать ни в какой малости, чтобы в самый раз пришлось Дуняшке. Не так уж это просто.
Все эти думки и заботы вихрились в Пелагеевой голове наряду с теми словами, которые выговаривала на ходу Дуняшке. Думы – сами по себе, слова – сами по себе.
Дуняшка, перекликаясь с матерью, тоже про свое думала. Прожитая жизнь ее покороче, забот поменьше, но зато с покупкой пальто у нее связано много своих девичьих мыслей, от которых всю дорогу радостно голубеют глаза и румяно горят щеки.
Взойдя на самую верхушку косогора, где дорога опять встретилась с телефонными столбами, взбежавшими на гору прямиком по самой крутизне, Пелагея остановилась глотнуть воздуха. Обе оглянулись и, отдыхая, смотрели на деревню. Она все еще виднелась серой полоской соломенных крыш среди черной зяби и просторных полос подросшей озими. Деревня казалась совсем маленькой меж необозримого уймища земли, вздыбленной холмами, и еще большего неба, серо клубящегося осенними тучами.
Пелагея, пробежав глазами по ряду похожих одна на другую хат, безошибочно нашла свою и, озаботясь, проговорила:
– Наказала Степке сходить в сельпо за керосином. Забегается – не сходит…
А Дуняшка нашла длинный белый брусочек своей птицефермы на отшибе деревни, подумала: догадается ли дед Алексей перетянуть под навес привезенную рыбную муку, вспомнила о пропавшей вчера любимой курице Моте, которую она умела отличать среди сотен других таких же белых. Мотя была нерасторопная и копуша, но несла крупные яйца. Потом Дуняшка тоже, как и Пелагея, стала перебирать глазами хаты. Но искала она не свою, а другую… Вот она, под молодым, еще не облетевшим рыжим топольком. Сердце колыхнулось и пролилось теплом… Под этим топольком на лавочке прошлый раз – не дай Бог, мать узнает! – поцеловал ее Сашка. Она, внутренне полыхая от стыда и счастья, сорвалась со скамейки и побежала, угнув голову. Только ноги не слушались, а сердце так гулко колотилось под пальтишком, что не слышала, как нагнал он ее и пошел рядом…
Дуняша, забывшись, долго глядела затуманенными глазами на рыжий тополек, пока Пелагея не позвала:
– Пойдем, девка! Чтой-то ты?
А выйдя на ровное и разойдясь малость, спросила:
– Третьего дня ктой-то под нами стоял?
– Ты про кого, мать? – как могла простовато, спросила Дуняшка, а сама так и пыхнула, благо что пыхать-то уж больше некуда было.
– Ну, не дури, – осерчала Пелагея. – Небось не глухая. Голос вроде знакомый, а признать не признала.
– Сашка стоял, – уклончиво сказала Дуняшка. – Так, мимо шел.
– Это чей же? Акимихин, что ли?
– Тетки Фроси… Что хата под тополем.
– A-а! Ну, ну!.. Отслужился, стало быть?
– В Германии служил.
– Что же, привез что-нибудь?
– Не знаю, не спрашивала. Мне-то что!
– Должон привезти, – решила Пелагея.
Обежали большую лужу, налитую дождями, в которой утонули обе тропочки, проторенные рядом: Пелагея – справа, Дуняшка – слева. А когда опять сошлись, Пелагея спросила:
– С матерью будет жить аль в город подастся?
– Не знаю я.
– А ты б спросила.
– Не спрашивала я.
– Как же об этом не спросить-то? – удивилась Пелагея.
– Он мне про Германию рассказывал. Интересно так! А про это разговору не было.
– Гляди-ка! – хлопнула себя Пелагея по переднику. – Да об этом вперворядь спрашивать надо. А так – что толку провожаться?
Дуняшка заморгала глазами, отвернулась, глядя на голые придорожные кусты.
– Ну, ну! – примирительно сказала Пелагея. – А только, если опять придет, попытай. Тут ничего зазорного нету.
– Не буду я спрашивать, – сердито мотнула головой Дуняшка.
– Не будешь, так я сама разузнаю, – решительно сказала Пелагея, ловко перепрыгивая через канаву.
– Стыд-то какой! И не смей! И не думай даже!
– Дура и есть дура.
– Пусть! А только не смей! Нужен он мне больно!
– У калитки стоишь – стало быть, нужон.
– Много я настояла! – дернула плечами Дуняшка и побежала вперед, норовя обогнать Пелагею, идти одной. – Только и знаю: на ферму и домой.
– Я аль запрещаю? Парень он тихий. На тракториста учился. Стой. А только стоять с умом надо. Девичье дело такое… Вот купим пальто…
Но Пелагея не договорила, потому что и сама не знала, что должно быть, когда купят они пальто.
На шоссе вышли как раз к самому автобусу, часа полтора ехали, разлученные теснотой, терпеливо вынося давку и тряску, и наконец вывалились на автостанции. Пелагея – без одной пары жестяных молоточков в петлице, Дуняшка – со взбившимся на затылок вязаным платком и такая, будто побанилась с березовым веником. Она тут же стала озираться по сторонам, дивясь пестрой городской сутолоке, а Пелагея сразу сунула руку за пазуху Степкиного пиджака и царапнула кофту под грудью: «Целы? Целы… Ох!»
Они вышли на главную улицу, и город захватил их своим хлестким людским водоворотом.
Мимо Дуняшки шли кепки и косынки, шинели и спецовки, шарфы и шарфики. Проходившие очки удивленно и близоруко косились на Пелагеин передник. Вертлявые береты больше поглядывали на Дуняшку. Она даже слышала, как один берет сказал другому: «Гляди, какая вишенка! Блеск! Натуральный напиток!» И она деревенела от робости и смущения. Проходили всякие шляпы – угрюмо надвинутые и лихо заломленные. И всякие шляпки. Дуняшка дивилась цветочным горшочкам и горшочкам для гречневой каши, мелким тарелочкам и эмалированным мисочкам и просто ни на что не похожим. Шныряли авоськи с картошкой и хлебом, плавно покачивались сетки с мандаринами, робко шаркали матерчатые боты, подпираемые костыликом. А над всем этим людским потоком каменными отвесными берегами высились дома.
Дуняшка редко бывала в городе, и каждый раз он открывался по-новому. Когда приезжала с матерью еще маленькой девочкой, ее так поразили вороха конфет, пряников и множество всяких кукол, что ничего другого она не запомнила, и потом в деревне долго еще снился пряничный город, в котором жили веселые, красивые куклы. Постарше она читала вывески, заглядывалась на милиционера, как он размахивает полосатой палкой и поворачивается туда-сюда, и, пока Пелагея стояла за чем-нибудь в очереди, глядела на кассовую машину, выбивавшую чеки.
Но теперь больше всего ее занимали люди.
«Сколько их, и все разные!» – дивилась Дуняшка, проталкиваясь за матерью. Мимо прошли тысячи, а схожих нет! И не то чтобы лицом, одеждой или годами. А чем-то еще таким, чего Дуняшка понять не могла, но смутно чувствовала эту несхожесть. У них в деревне люди как-то ровные – и лицом, и одеждой, и жизнью.
По пути Пелагея и Дуняшка заходили в магазины, приглядывались к одежде, но примерять не брали. Пелагея говорила:
– Пойдем в главном посмотрим.
Ей казалось, что самое лучшее пальто должно быть в универмаге. Но идти прямо туда ей не хотелось. Нельзя же так: прибежал, отвалил деньги – и до свидания! Кто так покупает? Пелагее было лестно, как продавщицы – красивые, белолицые – снимали с вешалки одно, другое пальто, выбрасывали перед ней на прилавок, а она хотя и знала, что покупать пока не будет, да и по цене подходящего не находилось, но деловито тормошила пальто, щупала верх, дула на воротник, разглядывала подкладку. А тем временем Дуняшка застаивалась в галантерее.
Бог ты мой, сколько тут всего! Чулки простые, чулки в резиночку, чулки тоненькие, в паутинку, как у ихней учительницы. Мониста! Голубые, в круглую бусинку, красной рябинкой, зеленым прозрачным крыжовником, и рубчатые, и граненые, и в одну нитку, и в целый пучок… А брошки! А сережки! Блузки какие! Гребенки и вовсе небывалые! Глядела на все это Дуняшка, и даже продавцы замечали, как разбегались глаза от красоты невиданной, как сами собой раскрывались пухлые Дуняшкины губы от восхищения. Подходила Пелагея не торопясь, разглядывала все это богатство, полная внутренней гордости, что если захочет, то все может купить.
Смотрели на Дуняшку продавцы, ждали, чего пожелает она, на чем остановит выбор. А Дуняшка торопливо шептала Пелагее:
– Глянь, какие сережки! Не дорого, а как золотые! – и моляще дергала мать за рукав.
– Пошли, пошли! Некогда тут! – озабоченно говорила Пелагея.
А Дуняшка:
– Мама, хоть гребенку!
Но Пелагея направлялась к выходу и лишь за порогом, чтоб не слышали люди, гусиным шепотом выговаривала:
– Гребенку купим, а на пальто не хватит. Понимать надо!
До универмага они добрались лишь после обеда. Правда, сами они еще ничего не ели: и некогда было, и не хотелось. У входа в магазин люд вертелся, как вода в мельничном омуте. Здесь засасывало, кружило и выбрасывало сразу десятки людей. Из дверей универмага доносился глухой непрерывный гул, будто там тяжело вращались жернова.