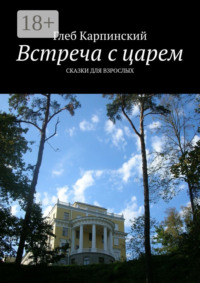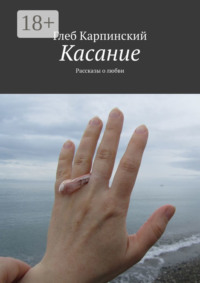Полная версия
Вино для любимой. Детективный роман
Пока происходила диагностика коляски, одна китаянка захотела сфотографировать себя на фоне мольберта. Но ее соплеменницы в довольно грубой форме отпихнули ее селфи-палку в сторону, и между ними на улице возникла откровенная склока с применением локтевых приемов и хватанием за одежду и волосы. Дошло до того, что все пожелали сфотографироваться с бедным ребенком, и художник был вынужден даже прикрикнуть на нерадивых гостей и отогнать их на значительное расстояние.
– Цыц, шантропа! Отойди от света!
Затем немного успокоившись, он снова присел за мольберт, и толпа осторожно, на цыпочках заняла свои прежние позиции. Молодую натурщицу он все же решился изобразить на самой вершине бокала с откинутой назад головой и оголенными плечами. Он старался (это получалось у него не сразу) убрать всю болезненность и страдание, заменив их желанием наслаждаться жизнью. Чтобы не провалиться в винную бездну и не утонуть в ней (край ее платья уже спадал вниз), девушка упиралась локотками рук о тонкое стекло, и играла перед собой скрестившимися босыми ножками. Художник несознательно, а, может, намеренно придал Вике больше женственности. Он добавил ей пышности в шевелюре, слегка увеличил грудь, а прорисовке глаз уделил так много внимания, что китаянки захотели тоже заказать свои портреты непременно с такими же глазами и долго на ломаном языке и при помощи жестов объясняли художнику свои пожелания, сильно отвлекая последнего от работы.
– Вставайте вот сюда, не мешайте, – стал распоряжаться художник, явно довольный таким раскладом. – И никаких скидок! Мы Вам не С-400 продаем, сударыни.
Все организованно встали в очередь по два человека. К ним еще присоединилось несколько зевак, и соседние художники, заметив ажиотаж вокруг своего коллеги-неудачника, попытались переманить перспективных клиентов к себе, но публика оказалась на удивление уперта и непреклонна. Некоторые даже гордо отворачивались в сторону, мол, не на тех напали. Видимо, китайцы и вправду посчитали, что перед ними настоящий Рембрандт.
– Ну, почем долго она рисовать? – не выдержал кто-то на конце этой хорошо организованной очереди. – Мы опоздать экскурсия в два часа.
– Не волнуйтесь, сударыни. Все успеют, – выговорил художник, не отводя взгляда от работы. – Я стараюсь всегда уложиться в десять минут. Просто сегодня исключительный случай.
– Вот видите, – улыбнулась больная девочка. – Я приношу Вам удачу, господин Бородка.
– Погоди, не шевелись… – вдруг встрепенулся художник. – Улыбайся, улыбайся, замри… Вот умничка! А тебе и правда идет улыбка! Отлично получается.
– Я давно заметила такой феномен за собой, – продолжала болтать девочка, – что я приношу удачу. Правда, правда. Вы – наглядный пример, Козломордый. Еще час назад Вы готовы были продать душу дьяволу, чтобы хоть кто-нибудь согласился на эксперимент издевательства над своим изображением, а сейчас к Вашему мольберту выстраивается целая армия поклонниц!
– О… точно армия… – оглянулся художник и присвистнул, прикидывая, сколько ему еще придется сегодня трудиться.
– Как бы эта иноземная армия его б потом не растерзала, – усмехнулся мужчина в куртке, стоявший рядом.
Девочка засмеялась.
– Нет, пожалуйста, нет. Только не смейся! – нахмурился художник и затем повернулся в сторону шутника, раздражено сверкнув глазами. – А Вам, смотрю, делать нечего.
– Делать и в самом деле нечего, – вздохнул мужчина в куртке.
– Тут весной такой тип ходил важный, тоже ему делать было нечего, все с мыслями собирался, потом в ресторан зашел, тут за углом, набрал всего-всего, а, в конце концов, когда счет принесли, с разбегу головой о стену… – и Козломордый покрутил пальцем у виска.
– Ну, мне это ни к чему, – засмеялся его оппонент. – Я на море лучше поеду. Там, возможно, еще сезон бархатный. Купаться можно. Эх…
– Неужели Вы собираетесь на море? – воскликнула девочка.
– Да, собираюсь, а что тут делать? Разве что рядом становиться с кисточками и тоже рисовать.
– Нет уж, избавьте от этого! – возразил художник, очевидно опасаясь ненужной конкуренции.
У него наконец-то получились губы. Китайцы за спиной одобрительно закивали. Кто-то из них щелкнул фотоаппаратом.
– Вас совсем не пугает море? – спросила опять девочка.
Мужчина в куртке отрицательно покачал головой.
– А чего меня оно должно пугать? Море как море.
– А я море как-то побаиваюсь… – призналась она. – Правда, мы с мамой там никогда раньше не были, но оно мне кажется каким-то страшным монстром. Ведь никто не знает, что оно там в себе таит, это море?
Мужчина улыбнулся.
– А ты представь лучше теплое солнышко, как идешь с мамой по пляжу, возвращаясь с рынка, и кушаешь крымскую черешню, а косточки прямо на песок плюешь.
– Нехорошо это, что плюешь, – нахмурилась девочка.
– Напротив, прекрасно это! – воскликнул мужчина в куртке. – В этом и есть счастье, что никто тебе и замечание не делает, что плюешься-то. Черешенка ведь вкусная- вкусная, так и тает во рту…
– Пожалуй, Вы правы, устала я от этих запретов. То нельзя, вот это тоже нельзя… А когда можно? Я непременно хочу быть счастливой, – и девочка улыбнулась и посмотрела на маму. – Чего мы, мама, ждем все, а? Купим прямо сейчас пакетик черешни и плевать косточки в разные стороны будем, а мама? Прямо на асфальт плевать будем…
– Да уж! Вы ей сейчас насоветуете! – возразила невзрачная женщина и погладила свою дочь ласково по головке. – Где я тебе, Вика, сейчас черешню достану?
– Эх, верно… – расстроилась девочка, закусив губу от досады. – Может тогда следующим летом. Если, конечно, не умру.
– Вика, что ты такое говоришь! Ты же обещала! перестать разговаривать с посторонними о своей болезни, – сильно встревожилась мама.
– Они вовсе не посторонние, – фыркнула она в ответ. – Они люди и тоже когда-нибудь умрут. Между прочим, я имею право разговаривать с кем я хочу и как хочу. Мне уже пятнадцать лет, а в некоторых странах в таком возрасте выходят замуж.
– Ну, уж точно не у нас в России, – возразила мать. – И слава Богу. Куда такая наивная замуж собралась! За кого? Нет уж, пока тебе не исполнится восемнадцать лет, и не думай о самостоятельности…
– Мама, мама, ты забываешь, что мне никогда не исполнится восемнадцать лет!
– Да что ты такое говоришь, Вика!
– Не ври, мама. Я все слышала, что доктор говорил, да и слышать этого не надо. По твоим заплаканным глазам все видно.
Глаза девочки вдруг сверкнули жестокостью. Она опять сжала в каком-то протесте свои слабые кулачки, пытаясь преодолеть гнев и понимая, что сделала матери больно, вдруг горько расплакалась. Ей стало неудобно за слезы перед людьми.
– Мама, увези меня отсюда, увези! – запричитала она. – Пожалуйста, мамочка…
Невзрачная женщина тяжело вздохнула и откатила коляску от мольберта. Художник бросился за ними, умоляя хотя бы подождать минуту. Рисунок углем почти был закончен, оставалось раскрасить лишь платье и сделать кое-какие штрихи, но мама Вики совсем не желала слушать его обрывистые доводы.
– Люда, ну как же так? Как же так?
– В другой раз, не видишь, у нее истерика! – строго отмахнулись от Козломордого. – Завтра к обеду придем.
В мастерской художника
Но на следующий день невзрачная женщина и ее больная дочь не появились, и художник в потасканном оранжевом свитере заметно скучал, вглядываясь в незаконченный портрет. Он сидел на своем раскладном стульчике под самодельной конструкцией из пляжного зонтика и триноги и делал неторопливо штрихи углем по памяти. Желающих нарисовать свой портрет было немого. Утром прошел прохладный дождь, который разогнал гуляющий люд, и многие просто предпочитали отсиживаться в кафешках. Но на улице художник был не один. Вчерашний мужчина в черной куртке тоже пришел посмотреть на работу. Он некоторое время слонялся без дела по Арбату, пока, наконец, не остановился у мольберта.
– Кажись, уже не придут, – печально заметил Козломордый, узнав вчерашнего собеседника. – Выпить бы чего-нибудь, трубы горят.
– Тут на Арбате дегустация отличного вина, – заметил мужчина в куртке. – Бесплатно разливают!
– Эх, молодой человек. Кому бесплатно, а кому задаром, – и он подмигнул левым заплывшим глазом. – Меня уже никуда не пускают. Репутация подмочена.
– Нет проблем! – сказал мужчина в куртке и пошел в грузинский дворик за бутылкой.
Ему хотелось взять «Саперави», которое вчера ему очень понравилось, и он очень рассчитывал, что на второй день дегустации для него все же останется хоть одна бутылочка.
– Опять Вы, здравствуйте… – обрадовалась ему грузиночка на входе.
– Вот пришел, как и обещал, – ответил он. – А где же Ваши грозные братья?
Девушка засмеялась.
– Они сейчас кушают с мамой в зале. Что… познакомить?
– Ой, нет, пока еще рано. Я лучше Вас потом украду.
Скоро он уже вышел на улицу явно довольный и поспешил к мольбертам. Старый художник, немного продрогший под моросящим дождем, предложил продолжить разговор в его мастерской, которая, как оказалось, находилась тут по соседству, и «старые» знакомые быстро, почти перебежками, прошли во дворы и, заскочив в обшарпанный подъезд, пешком поднялись на самый верхний этаж.
Мастерская художника представляла собой чердак, едва пригодный для проживания. Из-за низости потолка гостям приходилось невольно пригибать голову, чтобы не задеть головой побелку. Стоять в полный рост можно было разве что в центре, но там художник ставил обычно свой уличный мольберт и складывал вещи.
– Это Ваш? – спросил мужчина в куртке, пригибаясь. – Или бездомный?
У единственного окна стояла раскладушка, на которой дремал черный кот.
– Да, кто его знает, чей он?! Приходит сюда, орет, требует, – и художник заорал на кота, чтобы согнать с постели. – А ну, Макбет, пошел вон!
Котяра приоткрыл глаз и демонстративно зевнул, показывая всем своим видом явное пренебрежение.
– Простите за творческий беспорядок, – вдохнул художник и прикрыл форточку. – По трубе гад залазит.
Форточка опять открылась, порыв сырого ветра ворвался в мастерскую, и ее пришлось снова захлопнуть.
– Не люблю осень, – поморщился Козломордный.
– А мне нравится осень, – не согласился с ним мужчина в куртке. – Особенно прекрасен в это время года Саперави. Вы только представьте, как Вы бредете мимо бесконечных шпалер, уходящих за горизонт, к самому солнцу, обвитых сильными, яркими, точно пожар, лозами!
– Ну, знаете ли… Все это попахивает какой-то болезненностью ума, если хотите, маньячеством. Там на вашем винограднике работать надо, урожай собирать, и уж никак листвой любоваться. Вообще-то, когда я был молод, как Вы, – признался Козломордый, – я начинал с подобных пейзажей, рисовал дождь над безлюдным вспаханным под зиму полем, тронутую морозом рябину, старых опят на трухлявом пне, но сейчас я все больше специалист по бытовым натюрмортам… Это удобнее, и куда гораздо меньший риск простудиться. Вам надо взглянуть на мои последние картины, заказов немного, и я рисую от скуки… – и художник с козлиной бородкой показывал гостю свои последние «шедевры».
У стены стоял столик, который был заставлен пустыми бутылками, но гостю удалось разглядеть самобытную скатерть из ватмана с изображением пепельницы. Недокуренная сигарета слегка дымила плохо прорисованным дымком, а на фильтре остался след от губной помады, что придавало общему образу присутствие в мастерской некой загадочной женщины.
– Иногда смотрю на все это и мысленно достаю оттуда закусочку… – указал Козломордый на другой реалистичный рисунок – банку с огурцами. – Да, знаю… Синий цвет не совсем аппетитный, но уж простите, другого мелка тогда под рукой не оказалось. И признаюсь Вам, когда курить ужасно хочется, а денег нет… все это успокаивает. Ну, или вот эта банка шпротов! Соглашусь, что не удалась, но как аппетитно, – и художник сдвинул со стола тарелку, чтобы его гость мог лучше разглядеть угол уже затертого и запачканного чем-то рисунка.
С потолка стекал конденсат, и стены все были в разводах. Выступающую напоказ разруху художник старался прятать за своими работами, заклеивая ими невзрачные места, но от сырости скотч не выдерживал, и листы, вздрагивая от порыва сквозняка, спадали на пол.
К запахам старого дома, вперемежку с красками и застоем мочи, нужно было еще привыкнуть. На полу валялись кисточки, клочки разорванного ватмана. Мужчина в кожаной куртке стряхнул с себя паутину. От всего этого общее впечатление у него было удручающим.
– Вы тут живете? – спросил он, хотя уже заранее знал ответ.
– И живу, и творю, но творю большей частью зимой, когда погода ужасная, – виновато улыбнулся уличный художник, предлагая гостю жестом присесть на стул рядом со столиком.
Пригнувшись, тот постарался сесть лицом к окну.
– Тут вполне сносно, – словно оправдывался художник, прогоняя муху с немытой тарелки. – Все-таки самый центр, только никакой канализации.
– Почему нет канализации?
– С нижних этажей не дают провести, якобы нужно специальное разрешение из министерства культуры. Дом под охраной государства, тут видите ли. Когда-то бордель располагался, в который любили ходить… как его… А, неважно!
– Как же Вы ходите, извините, в сортир? – удивился гость.
– А Макдональдс на что? Так и приходится по каждому случаю бегать, – развел руками художник, – либо где-то во дворе с собачками выгуливаться, это никого не волнует. Ругаться бесполезно, писать по инстанциям себе дороже… Для них я обычный пьянчужка, который за бутылку малюет на Арбате лохам физиономии.
Козломордый тяжело вздохнул и стал убирать со стола, чтобы освободить пространство. Мужчина в куртке понял намек.
– Ну, что ж, как и обещал, – сказал он художнику, доставая из-за пазухи две бутылки «Саперави». – Вино должно быть, очень насыщенным… Не зря этот сорт называют еще Красильщиком. Ваш коллега, так сказать.
Художник встрепенулся и даже подпрыгнул на месте, в акробатическом прыжке успевая перебрать ногами. От этого чудачества кот вскочил с постели и на всякий случай нырнул под раскладушку.
– Вот это я понимаю! Вот это я уже понимаю…
Затем хозяин мастерской, взяв одну бутылку, куда-то ее припрятал, а для второй нашел чашки, заглянул в них и остатки чего-то предыдущего и непонятного просто выплеснул на пол.
– Чем же открыть, чем же… – поразмышлял он и после некоторых манипуляций с вилкой.
Наконец его зубы вцепились в застрявшую на половину пробку.
– Давайте чокнемся… Вот только за что?
– За нее, – и гость мрачно показал на мольберт с недорисованной девочкой.
– Тогда и за ее несчастную мать! – добавил трагедии Козломордый.
Выпив, художник тут же повеселел, тут же плеснул себе в чашку. Его припухшие глаза затуманились.
– Ох уж точно спирт добавляют, ох уж точно… – стал приговаривать он, оглянувшись на мольберт. – Капиталисты хреновы!
Казалось, больная девочка с вымученной улыбкой наблюдает за пьющими в ее честь мужчинами.
– Вика – добрая девочка, – сказал он немного спустя, – я часто вижу их на Арбате.
– Они тоже где-то живут поблизости? – поинтересовался гость.
– Насколько я знаю, живут они в Куево-Кукуево у какой-то дальней родственницы, а здесь они выклянчивают деньги, тут близехонько за «Му-му» есть банк. Директор этого банка жуткий скупердяй, отец девочки.
– И что же он совсем им не помогает?
– Пока нет, но Люда решила взять его измором, – ухмыльнулся Козломордый. – Девочке нужно поддерживать свое хрупкое равновесие уколами, а на все это нужны деньги, очень большие деньги. Как видите, мне что-то удалось узнать у ее озлобленной на меня матери, – и Козломордый горько усмехнулся.
– Почему же эта женщина на Вас так злится?
– Это долгая история…
– Я не спешу, – и мужчина в куртке, взяв инициативу в свои руки, наполнил чашки, пока художник с убранными за спину руками, тяжело вздыхая и охая, ходил сгорбившись по комнате, собираясь с мыслями.
– Вы же знаете, – нахмурился хозяин чердака, зачем-то тыча пальцем в потолок, – это нелегко вот так взять и погубить свое женское счастье, бросить все свои силы на алтарь страданий, свыкнуться с вечными истериками и криками тающей на глазах дочери, пройти ад унижений…
– А что с этой девочкой? Это что-то врожденное?
– Что Вы, нет! – покачал головой художник. – Обычный синдром иммунодефицита, побочное действие прививки. Произошел какой-то сбой, внутренние органы отказываются работать, нужны постоянно поддерживающие капельницы и консультации, витамины, а на это уходят почти все деньги… И все это продолжается уже года два с лишним, если не больше, и никаких улучшений. Только хуже и хуже. Но Людочка, мама Вики, верит в чудесное исцеление, жутко набожной стала, даже в воскресную школу записалась, колокольчики какие-то делает. Да и я сам тоже иногда в церковку захожу, свечечку ставлю, так, на всякий случай. Мы из-за всех этих дел просто рехнулись на этой почве, и неудивительно, что все, что происходит вокруг, воспринимаем, как божье провидение. И недавно у нас появилась надежда.
– У нас?
– У нас, – Козломордый смахнул скупую слезу, нависнув тучей над гостем.
Видно было, как он всеми силами борется с переживаниями, как глотает каждое слово. Мужчины молча чокнулись, осушая чашки до дна, и слышно было, как в этом затянувшемся молчании жужжит запутавшаяся где-то в паутине муха. Затем Козломордый нервно прошелся по комнате, поднимая руки вверх, намеренно и с каким-то ожесточением отколупывая ногтями побелку. Она сыпалась ему на шапочку, точно снег.
– Господи, я тут схожу с ума, – шептал он, сверкая нездоровым, почти безумным блеском глаз. – Ненавистная комнатушка! Ненавистная…
И когда он остановился под наброском вазы с яблоками, то мужчина в куртке даже зажмурился, ожидая, что эти плохо начерченные яблоки от столь резких жестов посыплются на голову безумцу. И если вначале гость объяснял все эти театральные кривляния на публику утонченностью натуры, ищущей пути и выходы из творческого застоя и затянувшегося душевного кризиса, то сейчас уже не сомневался в том, что художник этот как-то незаметно для всех спятил.
– Вы знаете, сколько стоит эта каморка? – продолжил художник в каком-то душевном отупении, оглядываясь по сторонам, будто в первый раз видя перед собой эту комнату. – Один банк, тоже здесь на Арбате, заинтересован в ее приобретении. Я даже наводил справки и, по крайней мере, залога под нее должно хватить…
– Хватить на что?
– Да, да… – и художник вдруг перешел на загадочный шепот. – Ждать больше нельзя, болезнь прогрессирует. Еще в начале лета я видел эту девочку на ногах, розовощекую, улыбающуюся и разгуливающую под руку со своей любимой мамой, а сейчас глядя на все это, невозможно даже представить…. Вику срочно надо класть в специальную клинику, есть договоренности, внесен даже задаток. И я, признаюсь, потерял покой и сон от понимания того, что могу помочь этим случайным мне людям.
– Так в чем же дело?
Козломордый встал перед гостем и, глядя ему прямо в глаза, строго спросил:
– Вы когда-нибудь, сударь, совершали подвиг?
Мужчина в куртке задумался, не сразу находя, что ответить.
– Ну, там спасение утопающего или, может, вытаскивали кого-нибудь во время пожара? – подсказал художник. – Или, может быть, Вы заступились за женщину перед хулиганами?
– Сложно сказать. Я никогда не задумывался над этим. Моя жизнь всегда текла по течению. Одни вещи были, которые я делал неумышленно, другие потому, что другие говорили, что так надо делать. Вчера я весь день шлялся по городу, сегодня вот пью с Вами…
– Да уж велик подвиг… Но Вы не одиноки в этой компании. Я тоже, сколько себя помню, жил все время для себя, думал, пущай другие из себя благородных девиц изображают, в ус посмеивался… Думал, мое дело тихое, обхитрю эту жизнь, а под конец, может, и куш сниму. Ан нет! Одиночество и подагра – вот мои прихлебатели. А, впрочем, что я говорю! – и он махнул безнадежно рукой. – Мы все зарываем голову в песок, когда видим чужие страдания, считаем, что нас это никогда не коснется.
– Да, тут Вы правы, – согласился мужчина в куртке. – Мы живем в царстве страха и безразличия…
– Вот-вот, метко подмечено, сударь! Страх и безразличие… Отдать последнюю рубаху может далеко не каждый… Вы знаете, как у меня сердце обрывается, когда я каждый раз слышу скрип инвалидного кресла, я просто вздрагиваю, осознавая, что у меня есть возможность – спасти эту детскую жизнь… – художник замолчал, собираясь с духом.
– На днях я обещал ее матери, – продолжил он, – бил себя в грудь при случайных свидетелях, что помогу им с лечением… И мы даже ходили в банк, и там обещали без вопросов дать под залог этой хибары проклятые десять тысяч… О, Вы бы видели, как засияло лицо этой прекрасной женщины! Оно сияло надеждой и бесконечной благодарностью. Да что благодарностью! Оно сияло любовью ко мне, и, глядя на это лицо, я вдруг испугался, что не оправдаю эти надежды. Да, сударь! Мне стало очень страшно…
– Чего же? – спросил гость, чувствуя, как страх рассказчика невольно передается и ему.
– Мне стало страшно, – продолжал художник, – что я не герой, что все, что я делаю сейчас, делаю для себя, для подлой галочки, что в этой моей ущербной подлости мне только одного и надо, чтобы толкнуть обманутую женщину на эту грязную раскладушку и что она в такой безвыходной ситуации никогда не откажет мне в моей пошлости… Да и кто я такой, чтобы жертвовать собой ради других? На то есть государство, олигархи, кто-то еще, но никак не я, жалкий, никчемный старик… – и он вдруг зарыдал, закусив кулак. – О, я подлец! Ну, дайте же, не томите…
Мужчина в куртке уже разлил, когда рассказывающий со слезами подскочил к столику и схватил чашку двумя непослушными дрожащими ладонями.
– Да, я передумал, – продолжил Козломордый. – Струсил в тот самый момент, когда она уже уверовала в исцеление своей дочери и боготворила меня… Вот почему она меня ненавидит! И правильно делает…
– Это жестоко…
– Жестоко, не спорю… Но я и, правда, верил, клянусь Вам, до последней минуты своей веры верил, что смогу решиться на эту сакральную жертву…
Художник взял пустую бутылку, повертел ее в руках и присосался к горлушку.
– Пейте, мне уже достаточно, – и гость протянул свою недопитую чашку.
– Спасибо! Вы прекрасный человек, просто замечательный. Приходите ко мне еще, в любое время, в любую погоду, когда Вам будет угодно. Даже ночью. Особенно ночью, когда бессонница душит меня не хуже удавки. Ключи всегда под ковриком, я буду ждать…
– Но почему Вы держите ключи под ковриком? Вас могут обворовать.
– Ну, сударь, это право, смешно! Во-первых, я такой растеряха, что уже устал терять ключи и просить местного дворника выставить дверь, в какой-то момент нам всем это изрядно надоело, а во-вторых, у меня нечего брать. Оглянитесь… Хотя постойте… Все самое дорогое в этой старой банке, – и художник, покачиваясь, подошел к мольберту.
Там он, подняв с пола жестяную баночку из-под леденцов, встряхнул ею. Редкие мелки и угольки загрохотали в ней, часть из них посыпалось на пол.
– Пока она гремит, не все так плохо, сударь. Жизнь без нее давно бы потеряла смысл.
Затем художник посмотрел на свою неоконченную работу и вздохнул.
– У Вас замечательно получилось, – высказался гость.
– Вы так считаете?
– Думаю, Вам сложно будет завязать.
– О, – улыбнулся художник грустно. – Пожалуй, я все же брошу! Думаю, это последняя моя бутылка. И Вы не представляете, как я Вам благодарен, что разделили ее со мной.
Гость ухмыльнулся. Художник заметил это.
– Та вторая не в счет. Когда Вы уйдете, она утолит мое одиночество, – оправдался он. – Вы знаете, только Вам я могу признаться, сударь, только Вам, у меня нет друзей, нет родственников, я совершенно один. Ну, разве что еще Макбет. Но он старый обдрипанный кот и не в счет… Где он кстати? Кыс-сс…
Козломордый отвлекся, покачиваясь и подзывая из-под раскладушки кота, но тот упорно не желал выходить и даже шипел на попытки выманить его оттуда.
– Вы знаете, что она приходила ко мне, поправ свою женскую гордость, бросалась в ноги и умоляла, чтобы я одумался и сдержал слово… Она целовала мои руки, умывала их своими обманутыми надеждами слезами… – и художник продемонстрировал гостю свои изуродованные подагрой пальцы, внимательно и с какой-то ностальгией разглядывая их. – И я толкнул ее вот сюда, на эту грязную блохастую постель, я желал мерзости, я заслуживал ее, – и он подошел к окну, убедился, что оно закрыто. – Но вместо мерзости была пустота…
Затем Козломордый схватился за голову и снова стал хаотично ходить по комнате, срывая со стен свои натюрморты. Он не щадил ничего.
– Она уже никогда не придет… никогда… Страшно, страшно, сударь… – отдышался он.
Художник опять остановился в центре комнаты и задумался.
– И Вы знаете, – припомнил он, хватаясь за грудь, – сердце так ноет, так ноет… Темнота там, мрак. Ничего не могу вспомнить, разве что этот сорванный нелепый платок, разбросанные по подушке рано поседевшие тицианские волосы, закрытые, полные слез глаза и этот богобоязненный бред: «Бог любит меня, Бог любит меня»…