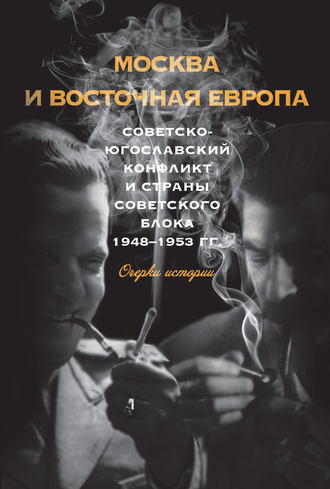
Полная версия
Москва и Восточная Европа. Советско-югославский конфликт и страны советского блока. 1948–1953 гг.
Югославское ответное письмо от 19 мая 1948 г. стало фактически последним в переписке Москвы и Белграда, которая в действительности отражала разные представления Сталина и Тито о форме и содержании социализма и методах его построения. Думается, конфликт именно оттого и случился, что у Тито и его ближайшего окружения к 1948 г. начало складываться иное, отличное от советского ви́дение способа строительства социалистического общества. Набор критических «цитат» о Советском Союзе, приписываемый югославам, не был, скорее всего, «придуман» Жуйовичем, он неоднократно звучал в кабинетах партийного руководства. В советском письме от 4 мая не случайно отмечалось, что «беседа тов. Жуйовича с советским послом тов. Лаврентьевым не дала и десятой доли того, что содержится в ошибочных и антисоветских речах югославских руководителей»[61]. Сталин же исходил из того, что советский опыт является универсальным образцом, которому должны следовать все компартии стран «народной демократии» без исключения. И действительно, все компартии, подчиняясь иерархическому принципу, исполняли эту главную задачу – «возводить» социализм по советским лекалам. Тито неожиданно для всех решил нарушить это незыблемое правило и пошел против Сталина, который, похоже, сознательно его провоцировал, вводя санкции, затягивая экономические переговоры, отзывая советников из Югославии, рассчитывая в полном объеме обнаружить истинные намерения югославского руководства. Тито, который в 1946 г., находясь в Москве, слышал от Сталина его рассуждения, которыми тот делился в то время со многими партийными деятелями разного уровня – о многообразии путей к социализму, необязательности установления диктатуры пролетариата и следования по советскому пути к социализму в странах «народной демократии», мог поверить в искренность советского лидера. Как могли поверить в это и польские коммунисты Б. Берут и Э. Осубка-Моравский, с которыми Сталин беседовал в мае того же года, убеждая их в том, что строй, установленный в Польше, Югославии, и отчасти в Чехословакии, – это новый тип демократии, отличный как от буржуазной, так и в определенной степени от советской, рабоче-крестьянской[62]. Как представляется, изменение взглядов Сталина на проблему строительства социализма в странах советского блока могло произойти по причине изменения характера отношений СССР с Западом, их ужесточения, вызванного его обидой на бывших союзников, которые, по его мнению, вопреки ранним договоренностям, решили разными способами противодействовать советским усилиям по консолидации стран, отошедших в сферу военно-политического влияния СССР. Тогда в ожидании нового военного конфликта задачей Кремля становилась предельно возможная унификация политических систем стран «народной демократии» по советскому образцу и жесткая привязка их к политике Москвы. Сталинский, условно говоря, «либерализм» 1946 г. можно было бы объяснить необходимостью трансляции этих идей западным руководителям, которые должны были поверить, как это было с роспуском Коминтерна в 1943 г., в отказ Кремля от намерения распространять законы своей коммунистической империи на Восточную Европу. Кажется, Сталин решил пожертвовать Югославией, чтобы «оградить» компартии стран «народной демократии» от тех «ошибок», а в отдельных случаях «ереси», обвинения в которых были предъявлены КПЮ. Югославскую компартию можно считать в известном смысле «сакральной» жертвой Сталина, принесенной во имя утверждения нового курса ВКП(б) по отношению к странам «народной демократии». Он обозначил новые, более жесткие рамки, в которых должны были развиваться политика, экономика и идеология этих стран, теперь еще больше привязанных к сталинской теории социализма и внешнеполитической линии СССР.
Примечательно в этой связи выступление Жданова еще 27 марта 1948 г. на совещании в ЦК ВКП(б), посвященном подготовке к конгрессу ученых-славяноведов. (В тот день Сталин и Молотов направили Тито первое письмо с обвинениями в отходе от марксистско-ленинской линии.) Жданов указал на «неверные концепции», которые получили распространение в Югославии. Речь шла об утверждениях, будто бы Югославия является «настоящей революционно-социалистической страной», а путь, избранный странами народной демократии для строительства социализма, – «более верным и более надежным, чем тот путь, по которому шел Советский Союз». Критикуя данное утверждение, Жданов подчеркнул, что развитие народно-демократических стран не исключает классовую борьбу, осудил, имея в виду югославских коммунистов, «руководителей некоторых стран за отсутствие марксистского анализа» и попытку представить крестьян как «основу югославского государства», а «югославского кулака» – демократическим элементом[63]. Вероятно, эти слова Жданова, содержавшие фрагменты первого кремлевского письма югославам, можно считать началом публичной критики югославского руководства.
Выше говорилось, что Тито неоднократно заявлял о готовности обсудить возникшие, как утверждали в Кремле, «разногласия», которые в Белграде даже не считали таковыми. Руководство КПЮ выполнило к тому времени бо́льшую часть указаний Москвы: отказалось от посылки дивизии в Албанию, подписало договор о консультациях по внешнеполитическим вопросам, приступило к пересмотру своей аграрной политики, ужесточило подход к проблеме частной собственности. При желании начавшийся конфликт можно было урегулировать в самом начале, но Сталин и Молотов, зная Тито и его окружение, вероятно, решили «поставить эксперимент» над руководством КПЮ, проявлявшим самостоятельность, и, используя разные способы давления, добиться безусловного признания инкриминируемых ему «ошибок». Не исключено, как мы уже отмечали, что подобная тактика, преследуя цель подавить в зародыше югославскую «ересь», являлась также попыткой продемонстрировать другим компартиям способ упреждающей борьбы Кремля с инакомыслием. Нельзя сказать, что уже на том этапе Тито открыто выступал с обоснованием альтернативной модели социализма, пытаясь противопоставить ее сталинской, но сам характер югославской части переписки, а также принимаемые по его инициативе на Политбюро ЦК решения убедительно свидетельствовали о зарождении неких новых принципов, согласно которым должны были строиться отношения внутри лагеря «народных демократий». Тито был готов отстаивать интересы своей страны, защищать самостоятельность партии вопреки давлению и принятой иерархии отношений, что создавало для Кремля абсолютно недопустимую ситуацию. Важным было и то, что югославский лидер и его соратники осмелились считать себя равными кремлевским руководителям в трактовке теории марксизма. Это была дерзость, которую Кремль никому не мог позволить.
Решение руководства КПЮ не посылать свою делегацию на заседание Информбюро было еще раз повторено советской стороне в ответном письме Тито руководителю Отдела внешней политики ЦК ВКП(б) М. А. Суслову от 20 мая 1948 г. Через два дня, 22 мая, в Белград было направлено письмо за подписью Сталина и Молотова, в котором была продолжена критика югославских товарищей, теперь уже за отказ от участия в заседании Информбюро, и в этой связи делались серьезные выводы. Во-первых, этот факт, по мнению кремлевского руководства, свидетельствовал о том, что югославам нечего сказать в свое оправдание и что они тем самым «молчаливо признают себя виновными и боятся показаться перед лицом братских партий». Такая позиция, как отмечалось в письме, означала, что «ЦК КПЮ стал на путь откола от единого социалистического фронта народных демократий с Советским Союзом и готовит свою партию и народ к тому, чтобы предать этот единый фронт». Подчеркивалось, что, поскольку партийной основой фронта является Информбюро, «такая политика ведет к измене делу международной солидарности трудящихся и к переходу на позиции враждебного делу рабочего класса национализма»[64]. Тем самым еще до заседания Информбюро была точно квалифицирована югославская политика, в основе которой лежало стремление четко формулировать и защищать свои национальные интересы. После отказа югославов от участия в совещании Коминформа лидеры некоторых «братских» компартий самостоятельно либо по инициативе Москвы пытались вступить в контакт с югославским руководством и убедить его пересмотреть свое решение. Попытки выступить в роли посредников предпринимали в мае 1948 г. лидер польских коммунистов В. Гомулка, секретари компартии ГДР В. Пик и компартии Румынии Г. Георгиу-Деж. Политбюро ЦК БРП(к) поручило Г. Димитрову послать Тито личное письмо с просьбой взвесить все возможные последствия, вытекающие из решения не участвовать в совещании[65]. Югославский посол в Москве В. Попович в телеграмме Тито от 1 июня предлагал ему написать личное, «теплое» письмо Сталину с изложением всех достижений югославской компартии, успехов, недостатков и ошибок, а также описать возможные последствия несправедливой позиции «по отношению к нам». Кроме этого, он считал целесообразным, чтобы это письмо подписали известные в Югославии люди, представители всех республик. Сообщая о своих беседах в Москве с некоторыми советскими официальными лицами, посол отмечал, что, по его мнению, этих людей «страшно бесило то, что мы не просим прощения», и они в частности почти не скрывали желания, чтобы из югославского руководства был удален Джилас. В то же время, как казалось Поповичу, многие в Москве были убеждены в том, что не следовало так поступать по отношению к Югославии, но, как он писал, «никто из них не имеет права это сказать»[66]. Сообщения о настроениях и ожиданиях в Москве в связи с подготовкой к заседанию Коминформа Попович продолжал отправлять в Белград и в последующие дни. Так, согласно его информации от 4 июня, адресованной Карделю, в кругах, близких к советскому руководству, говорили о том, что Джилас и Кардель – «старые троцкисты, но весьма изощренные». Как можно было понять из сообщения югославского посла, в планы советского руководства входила изоляция Тито от Джиласа и Карделя, а затем нанесение удара по нему. Попович подчеркивал вместе с тем, что, по его мнению, к подобной информации следует относиться с осторожностью[67].
Письмо югославам за подписью М. А. Суслова о решении провести совещание Информбюро, включив в повестку дня вопрос о положении в КПЮ, было доставлено в Белград его заместителем В. В. Мошетовым. 21 мая он встречался с Тито, повторившим, что вопрос о некоторых ошибках югославов мог бы быть рассмотрен в конфиденциальном порядке, но поскольку Москва уже сообщила о своих претензиях к КПЮ другим компартиям, то всякое обсуждение лишается смысла. Тито предложил пока оставить проблему открытой, подождать, когда всё «немного уляжется»[68]. Между тем, начиная с апреля в Москве была развернута подготовка к совещанию, и к середине июня был готов проект доклада и резолюции «О положении в Коммунистической партии Югославии». Оба документа дорабатывались под руководством Сталина. Готовность «братских» компартий к совещанию была определена 12 июня на заседании редколлегии органа Информбюро – газеты «За прочный мир, за народную демократию!», состоявшемся в Белграде. Все участвовавшие в заседании представители зарубежных компартий выступили с осуждением югославской позиции. В принятой резолюции, текст которой был предложен советской стороной с упоминанием, что резолюция сформулирована Сталиным, говорилось, что «антисоветская и антимарксистская политика ЦК КПЮ достойна того, чтобы она подверглась не косвенной, а прямой критике»[69].
К открытию совещания Коминформбюро, проходившего в Бухаресте 19–23 июня 1948 г., кремлевское руководство уже приняло решение наказать Тито и его соратников за отказ признать свои «ошибки». Совещание стало лишь способом публично показать всем и в первую очередь компартиям стран «народной демократии», что Москва не допустит отхода от сталинской трактовки марксизма-ленинизма ни в теории, ни на практике.
19 июня по предложению А. А. Жданова от имени собравшихся участников совещания в ЦК КПЮ было направлено последнее приглашение прибыть в Бухарест. 21 июня был получен ответ, в котором югославское руководство еще раз повторило причину своего отказа от участия в совещании. В телеграмме подчеркивалось, что «ЦК КПЮ остается и впредь при своем убеждении, что только совместное обсуждение спорных вопросов в прямом контакте ЦК ВКП(б) и ЦК КПЮ в самой Югославии является единственно правильным путем в разрешении существующих недоразумений». Не исключено, что за этим условием стояло помимо прочего не лишенное оснований подозрение Тито, прошедшего школу Коминтерна и знакомого с «кухней» московских процессов 1930-х гг., что пребывание югославской делегации в Румынии может закончиться драматически. 19 и 20 июня в ожидании ответа из Белграда состоялись беседы между советской делегацией и делегациями других компартий. Москва прокручивала свой сценарий, готовя всех участников совещания к единодушному осуждению Тито и его соратников.
Второе совещание Информбюро и интернационализация советско-югославского конфликта
Все второе совещание Коминформа было посвящено развернутой критике югославского руководства. Глава советской делегации А. А. Жданов выступил с докладом «О положении в Коммунистической партии Югославии», содержащим весь набор обвинений, выдвинутых против руководства КПЮ в советских письмах. В результате дискуссии участники пришли к единому выводу, отраженному в резолюции совещания. Руководству КПЮ вменялось в вину, что оно «за последнее время проводит в основных вопросах внешней и внутренней политики неправильную линию, представляющую отход от марксизма-ленинизма»[70]. Бо́льшая часть делегатов совещания использовали трибуну не только для осуждения югославов, но и для безудержного восхваления ВКП(б) и ее руководства. Так, член ЦК БРП(к) Тр. Костов в своем выступлении отмечал, что «ЦК ВКП(б) и лично т. т. Сталин и Молотов давали нам чрезвычайно ценные советы и помогали нам исправлять наши ошибки». Явно отмежевываясь от югославов, Костов подчеркнул: «Мы не боимся, что ЦК ВКП(б) будет иметь свою собственную информацию о положении дел в нашей партии, т[ак] к[ак] в лице СССР мы видим искреннего друга, прекрасного советника и наставника. Наша коммунистическая совесть чиста, у нас нет никаких секретов от ЦК ВКП(б), от тов. Сталина. А у югославских руководителей, видимо, совесть не совсем чиста». Перечисляя «ошибки» югославских руководителей, Костов указал на недооценку ими руководящей роли СССР в борьбе против империализма и в строительстве социализма, на «узконационалистическую переоценку роли и значения новой Югославии», «зазнайство и головокружение от успехов, которые достигнуты при помощи Советского Союза». Перечень «ошибок» завершала констатация отхода югославского руководства от теории марксизма-ленинизма, стремления внести в теорию «свои югославские поправочки, от которых веет духом оппортунизма и троцкизма»[71]. Костов поставил вопрос о том, каким способом можно не допустить «отхода Югославии от демократического фронта»; в противном случае Болгарии и Албании «придется оглядываться в сторону Югославии», поскольку все экономические связи Болгарии с Западной Европой проходят через нее. По мнению «болгарских товарищей», подчеркивал Костов, следует сделать этот вопрос предметом широкого обсуждения, вынести его «на суд партийных и народных масс Югославии», «развязать внутренние силы партии и страны и опереться на них». Важно, по мысли Костова, сделать это до съезда КПЮ, «чтобы помешать маневрам Тито противопоставить всю партию Информбюро»[72].
Совещание приняло резолюцию по докладу Жданова, констатировавшую, что «в руководстве КПЮ за последние 5–6 месяцев открыто возобладали националистические элементы», и оно стало на путь национализма. Подчеркивалось, что югославские руководители, «переоценивая внутренние национальные силы и возможности Югославии», думают о сохранении ее независимости и построении социализма «без поддержки коммунистических партий других стран, без поддержки стран народной демократии, без поддержки СССР». Рисовалась мрачная перспектива взаимоотношений Югославии с капиталистическими странами, причем задолго до того, как начались, на первых порах во многом вынужденные ее реальные контакты с Западом. Авторы резолюции, опираясь на какие-то только им известные факты и информацию, утверждали, что югославские руководители, «плохо разбираясь в международной обстановке и запуганные шантажистскими угрозами империалистов, полагают, что путем ряда уступок империалистическим государствам» они могут приобрести их расположение, «договориться с ними о независимости Югославии и постепенно привить югославским народам ориентацию на эти государства, то есть ориентацию на капитализм». В документе констатировалось, что причины подобных надежд югославского руководства заключались в следовании «известному буржуазно-капиталистическому тезису», в силу которого «капиталистические государства представляют меньшую опасность для независимости Югославии, чем СССР»[73]. Завершалась резолюция словами, в которых выражалась надежда на то, что «в недрах компартии Югославии имеется достаточно здоровых элементов», которые должны «заставить своих нынешних руководителей открыто и честно признать свои ошибки и исправить их, порвать с национализмом, вернуться к интернационализму и всемерно укреплять единый социалистический фронт против империализма». В противном случае задача «здоровых сил» будет состоять в том, чтобы сменить нынешних руководителей и «выдвинуть новое, интернационалистическое руководство КПЮ»[74].
На следующий день после появления резолюции Информбюро состоялся пленум ЦК КПЮ, на котором был сформулирован развернутый югославский ответ на этот документ. Все обвинения были названы несправедливыми и отвергнуты как самая большая историческая ложь, направленная против героического югославского народа и партии. Пленум, отвечая на кремлевские призывы к «здоровым силам партии» сменить руководство, призывал членов КПЮ сплотиться в борьбе за проведение партийной линии и «еще большее укрепление единства партии, а рабочий класс и остальных трудящихся, объединенных в Народном фронте, еще настойчивее продолжать работу по строительству социалистической родины»[75].
Проблема отношений с ВКП(б) и компартиями, входившими в Информбюро, стала одной из главных на съезде КПЮ, решение о проведении которого было принято 20 мая 1948 г. Созыв партийного форума сам по себе явился ответом на обвинения Москвы в нарушении югославами норм партийной жизни: предыдущий съезд прошел в ноябре 1928 г. Состоявшийся в конце июля 1948 г. 5-й съезд КПЮ одобрил решения пленума КПЮ от 29 июня, которые были сформулированы в ответ на резолюцию Информбюро. Выступивший на съезде с докладом Тито отверг все обвинения, назвав их чудовищными, но заверил делегатов съезда, что ЦК КПЮ несмотря ни на что полон решимости восстановить хорошие отношения с ВКП(б). На съезде вновь прозвучало приглашение к советскому партийному руководству приехать в Югославию и «на месте убедиться в неточности своих обвинений»[76].
Согласно принятому на совещании Информбюро решению, из Белграда в Бухарест в конце июня – начале июля 1948 г. была перенесена штаб-квартира этого органа, а также редакция газеты «За прочный мир, за народную демократию!». Кремль постепенно переходил к изоляции КПЮ и теперь, уже после интернационализации конфликта – к публичной критике его руководства. Компартиям стран «народной демократии» предписывалось «нести в массы» решения совещания в Бухаресте, добиваться осуждения югославских «оппортунистов» и «изменников». В июле, после опубликования резолюции началась кампания вовлечения в межпартийный конфликт широких партийных масс компартий всех стран-участниц Информбюро. На многочисленных собраниях проходило обсуждение материалов прошедшего совещания. Наиболее драматическая ситуация сложилась в Югославии, где после июльского съезда КПЮ все партийные структуры – от актива до рядовых членов – должны были высказаться в поддержку «генеральной линии» партии. Этот болезненный процесс, проходивший при активном участии спецслужб, возглавляемых А. Ранковичем, выявил неоднозначный подход к конфликту. Несогласные, высказавшиеся в поддержку резолюции Информбюро, вскоре попали в категорию так называемых «информбюровцев». На первом этапе им выносили выговоры, подвергали партийным наказаниям, а уже через год наиболее упорствующих в убеждении, что югославской компартии необходимо остаться верной СССР, ВКП(б) и Сталину, стали отправлять в концентрационные лагеря, причем среди них были не только коммунисты, но и беспартийные граждане[77]. Вопрос о борьбе с инакомыслием в верхних эшелонах партии встал перед югославским руководством спустя всего неделю после принятия резолюции в Бухаресте. Тито и почти всё его ближайшее окружение – Э. Кардель, М. Джилас, А. Ранкович, М. Пьяде, С. Вукманович-Темпо, Б. Кидрич и др. – прибыли в Сараево на совместное заседание Политбюро ЦК КПЮ и Краевого комитета КПЮ Боснии и Герцеговины (БиГ). Ситуация в партийном руководстве республики сложилась непростая: часть его высказалась в поддержку решений Информбюро и осудила отказ центрального руководства КПЮ послать делегацию на совещание в Бухарест. Открывая заседание, Тито попытался кратко обрисовать некоторые, с его точки зрения важные причины возникшего конфликта, сообщив, что трения начались после принятия пятилетнего плана. Сталин обещал создать в Югославии военную промышленность, но вплоть до начала обмена письмами ничего не было сделано. Торговый договор в Москве не хотели подписывать, отложили эту процедуру на декабрь 1948 г.
Один из боснийских лидеров Родолюб Чолакович признался, что спор между КПЮ и ВКП(б) не только привел его в замешательство, но и полностью деморализовал. Он так верил в непогрешимость позиции ВКП(б) в споре с КПЮ, что даже думал о самоубийстве. Теперь же благодарит Тито и Карделя и считает, что истоки его колебаний кроются в недостаточной марксистской подготовке, догматизме. Член ЦК Углеша Данилович подчеркнул, что несмотря на неверную оценку политики КПЮ со стороны ВКП(б) всё же следовало отправить делегацию в Бухарест. Его позицию разделяли Радован Папич и другие коммунисты. Хасан Бркич, председатель правительства БиГ, полагал, что некоторые положения, изложенные в письмах ЦК ВКП(б), следовало признать. Джилас коснулся недостатков в идеологической работе и отсутствия четкой позиции относительно политики на селе, но закончил свое выступление признанием того факта, что «у Югославии нет другого пути, кроме как с СССР». Кардель объяснил боснийским товарищам, что занятая ЦК КПЮ позиция отрицания всех обвинений была единственно верной и возможной. Отставка Тито завершилась бы распадом страны[78]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См., напр.: White L. Balkan Caesar: Tito versus Stalin. N. Y., 1951; Armstrong H. Tito and Goliath. New York, 1951; Ulam F. Titoism and the Cominform. Cambridge, 1952.; Hammond T. Yugoslavia between East and West. N. Y., 1954; Dragnich A. Tito’s Promised Land. Bronswick, 1954.
2
См., напр.: Neal F. Titoism in Action. The Reforms in Yugoslavia after 1948. Berkeley – L. A., 1958; Halperin E. The triumphant Heretic: Tito’s Struggle against Stalin. London, 1958; Farell B. Yugoslavia and the Soviet Union. 1948–1956. N. Y., 1956; Drashkovich S. Tito, Moscow’s Trojan horse. Chicago, 1957.
3
Заметным явлением западной историографии стали работы Дж. Кембелла (J. Cambell), Э. Рубинштейна (A. Rubinstein), С. Клиссолда (S. Clissold), Ф. Оти (Ph. Auty), Б. Хойзер (B. Heuser), Д. Русинофф (D. Rusinoff), Д. Ларсона (D. Larson), В. Вучинича (W. Vucinich), Дж. Иатридиса (J. Iatrides) и др.
4
См. работы Р. Уэста (R. West), Л. Лис (L. Lees), Г. Свэйн (G. Swain), Дж. Лампе (J. Lampe), С. Павловича (S. Pavlovitch), И. Банаца (I. Banac), Д. Бекича (D. Bekic), Б. Петрановича и др.
5
Совещания Коминформа. 1947, 1948, 1949: Документы и материалы / Ред. Г. М. Адибеков, А. Ди Бьяджо, Л. Я. Гибианский, Ф. Гори, С. Понс. М., 1998; Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 гг.: В 2 т. / Отв. ред. Г. П. Мурашко. М., 1997; 1998; Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 гг. Документы: В 2 т. / Отв. ред. Т. В. Волокитина. М., 1999; 2002; Советско-югославские отношения. 1945–1956: документы и материалы / МИД РФ, МИД Республики Сербии. Новосибирск, 2010 и др.
6
Первыми исследователями проблемы стали российские историки Л. Я. Гибианский, В. К. Волков, архивисты В. А. Горлов, И. В. Бухаркин, Г. М. Адибеков. Наиболее последовательно и плодотворно исследовал историю советско-югославского конфликта Л. Я. Гибианский, опубликовавший по данной теме более 40 работ. См., напр.: Гибианский Л. Я. 1) К истории советско-югославского конфликта 1948–1953 гг.: секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года // Сов. славяноведение. 1991. № 3; 2) (в соавт. с В. К. Волковым). На пороге первого раскола в «социалистическом лагере»: переговоры руководящих деятелей СССР, Болгарии и Югославии. 1948 г. // Исторический архив. 1997. № 4; 3) Секретная советско-югославская переписка 1948 года // Вопросы истории. 1992. № 4–7, 10; 4) У начала конфликта: балканский узел // Рабочий класс и современный мир. 1990. № 2; 5) Вызов в Москву // Политические исследования. 1991. № 1; 6) От «нерушимой дружбы» к беспощадной борьбе: модель «социалистического лагеря» и советско-югославский конфликт 1948 г. // У истоков «социалистического содружества»: СССР и восточноевропейские страны в 1944–1949 гг. М., 1995 и др. Взаимоотношения Югославии с США и их союзниками в годы конфликта, формирование Балканского пакта в начале 1950-х гг. с участием Югославии исследовались в работах А. С. Аникеева.









